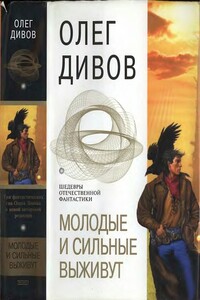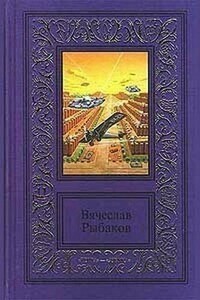Он не помнил, о чем они говорили в тот вечер – совсем не помнил, в памяти осталось лишь ощущение своей высокой, почти отцовской власти, столь безоговорочной, что она не требовала и не искала подтверждений. Удивительно и чудесно, сегодня он даже Симагина любил, словно вернулось детство и вновь они, двое подростков, не разлей вода, не могли и не могли разойтись после уроков, говоря обо всем. Вербицкий ушел – и не ушел, остался с нею. Папка осталась в их доме, словно очаг возбуждения в мозгу; люди ходят вокруг, как ходят неважные, случайные мысли, а она, подобно неугасимому воспоминанию, напряженно неподвижна и сталкивает, сталкивает женщину в его мир, в его жар, едва лишь взгляд ее скользнет по серому картонному сосуду, запечатанному соломоновой печатью титульного листа.
И, никуда не спеша, он долго скитался в прозрачном синем мерцании. Он был восхитительно одинок. Уже не в старой вселенной и еще не в новой – отстегнут от всего, счастлив. Пуст, но чреват всем. Черное зеркало Невы без плеска шло под мост. Рыжие вымпелы фонарей горели в воздухе и в воде на равных. Он долго стоял над бездной, потом пошел дальше, прошел мимо дома Аси и подумал с мирным превосходством, как не о себе: спать с нелюбимой женщиной – все равно что писать, как Сашенька Роткин. В душе протаивала крупная повесть. Широкое, темное и спокойное чувство собственной реальности переполняло его, затопляло, как весенний паводок, – оно было сродни чувству парения.
Он вновь пошел через четыре дня и, чуть войдя, понял, что она не преображена.
Не было восхитительного дуновения, когда женщина начинает тянуться сама, уже понимая, уже отдавая; когда физическая близость служит лишь подтверждением, предельным выражением возникшего сопереживания. Мир затрясся, обваливаясь и крошась, потом запылал. Вербицкий держался почти сорок минут; оборвав какой-то пустяк едва ли не на на полуслове, спросил прямо. "Да, некогда, было много всего, простите, Валерий. Не сосредоточиться. Андрей вот начал один рассказ, тот, что побольше, а мне пока никак". Он хотел закричать. Он хотел отобрать страницы – но не смог решиться, это было бы слишком страшно. Непоправимо. Тек дальше разговор. Симагин и мальчик вертелись рядом. Он ушел. Уснул со снотворным. Через пять дней поплелся опять, она выглядела приветливо. Но была за стеной. Была приветлива лишь оттого, что он – друг мужа. Сам по себе он не существовал. Вербицкий выкладывался, уже не обращая внимания на то, что, вероятно, выглядит смешным и ничтожным, домогаясь любви, как прыщавый шпендрик, – да что там любви, хоть интереса, привязанности, влечения! Он дошел до того, что попытался подружиться с ее сыном! Не помогало. Она была с Вербицким, как с прохожим. Ее огонь оставался за семью печатями, отданный на откуп одному лишь – и кому! Кому!! Он ведь даже не понимает, что за сокровище, что за волшебный талисман выиграл в лотерею у жизни – случайно, незаслуженно выиграл просто потому, что прошел рядом и протянул руку в должную секунду. О, если б это был я! И она не понимает, что произошло, она любит и слепа! Какое страшное надругательство над нею! Какая чудовищная эксплуатация! Тратить на быт, на мертвый вой циркульной пилы ту, для которой каждый взгляд любимого – праздник, которая все поймет и простит, даст силы на любой поступок и проступок, в любую геенну без колебании шагнет рядом; а может, даже забежит вперед, потому что любит. Любит. Симагина любит! Вкладывает и вбирает. Она же должна любить меня! Меня, меня, меня, меня, меня!!!
Она, наверное, все понимала – но не подавала виду. Он не знал, что она рассказывает этому недоумку. Может быть, все. Может быть, они хохочут над ним, когда остаются вдвоем. Он читал ей Бодлера:
"Навеки проклят будь, мечтатель, одержимый бесплодной мыслью первым разрешить – о, глупый человек! – вопрос неразрешимый, как с честностью любовь соединить!" Она смеялась ему в лицо: "Ну и гниют они там на Западе!" Он читал ей Ионеско, моляще, как побитый верный пес, заглядывая снизу ей в глаза: "Писать в России – это героизм. Писать – это почти приближаться к святости". Она лукаво щурилась, присматриваясь: "Да, уже нимбик светится!" Он давился смехом от ее остроумия, заходился до слез. Он слушал, когда начинала рассказывать она, – но ему плевать было, какие места в Ленинграде ей дороги, какое мороженое она предпочитает, во что играла в детстве, как была влюблена в девятом классе... Пришел Симагин, однообразно заулюлюкал при виде старого друга: