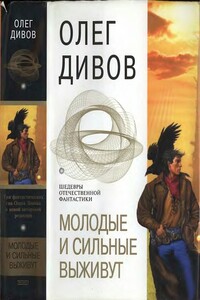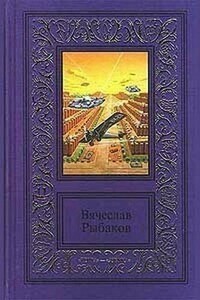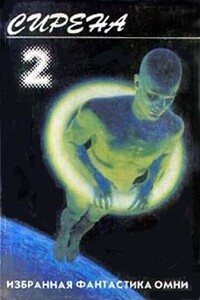Приятно рассказывать о любимом деле человеку, которому дело это интересно. Вербицкий снова напускал на себя равнодушие, делал вид, будто скучает, но ясно было, что он страшно заинтересован, чуть ли не потрясен. Еще бы. И забавно – стоило Верочке подойти, как он сразу постарался ей понравиться. И, конечно же, ему, чертяке, это сразу удалось. Бывают же такие – Верочка от него уже не отходила... Ладно, думал Симагин, глядя, как Вербицкий изображает царственное небрежение, пусть притворяется. Смешной. Все равно то, что чувствуешь, скрыть невозможно. Только не залезать в научные частности. Писателю частности маловразумительны и не нужны совсем – он впечатлений алчет... Будет тебе впечатление. Что может быть изумительнее, чем заглянуть в себя? Ведь сам Валера только этим и занимается, у него работа такая – словами срисовывать копии со своих мыслей и чувств. А вот копия, срисованная иначе, посмотри, я ведь знаю, ты за этим пришел. Он предложил Вербицкому снять, чем трепаться беспредметно, спектрограмму с него самого, хотя бы один эро-уровень. Гуманитару любовь, конечно, интереснее всего. Понимая, что уже и так доставил Симагину кучу хлопот, Вербицкий принялся отнекиваться, но Симагин настоял, потому что видел, как загорелся этой идеей Валера. У него даже глаза потемнели от возбуждения. После съемки они стали вместе просматривать спектрограмму. Симагин объяснял и все совестился, что многого еще не понимает. Чудовищно сложен человек... Зато когда по экрану пробегал отождествляемый всплеск, от гордости у Симагина даже дыхание теснило. Подошел Володя, угрюмый и напряженный. Он не просто работал – он воевал. Каждая серия была для него атакой, он боролся за больного сына. Он смотрел, слушал, курил... По молчаливому уговору сотрудников Володя имел право курить прямо здесь. Правда, сейчас он допустил небольшую бестактность: глядя на экран, вслух отметил то, что отметил про себя и Симагин, – чрезвычайно мощный Валерин СДУ. Верочка, умничка, спасла положение, но Симагин вдруг с ужасом сообразил, что вообще никому нельзя было показывать душу своего друга. Он готов был сквозь землю провалиться. Но Валера, как всегда, оказался на высоте. Он ничего не знал про Володю, но, видно, тоже почувствовал его трагическое напряжение, потому что попросил у него закурить и заглянул в глаза, словно говоря: все будет хорошо. А ведь ему самому несладко приходится, судя по тому же пику. Осел я бесчувственный, – грыз и глодал себя Симагин. – Асю чем-то обидел и даже не понимаю, чем; теперь Валеру... Чтобы впредь даже возможности для подобных случаев не могло возникнуть, он тайком от всех отдал Вербицкому кассету. И подарок на память достойный, и уж верная гарантия, что никто чужой не подсмотрит к нему в сердце. Он еще спросил Валеру: "Может, теперь сотрем?" – "Жалко", – ответил тот, подбрасывая кассету на ладони и явно не желая выпускать ее из рук. Вроде обошлось, не обиделся.
Симагин полетел домой, едва дождавшись окончания рабочего дня. Подкатил автобус сразу. Зеленая улица. Скорей. Ну что там, светофор сломался, что ли? Граждане, побыстрее на посадке... Правильно шофер говорит, копошатся, как неживые. Погода замечательная, можно взять бадминтон и – в парк. Воздух влажный, напоенный... Оденемся легко-легко. У нее есть платье, коротенькое и тонкое, как паутинка. В нем она совсем девочка, большеглазая и шальная – но стоит присесть за воланом, невесомая ткань рисует округлые бедра; напевные линии звучат нескончаемым зовом, чистым, как белый бутон в стоячих высверках росы. Там, укрытое платьем и сдвинутыми ногами – солнце. Оно мое.
Дома было тихо и пустынно. На кухонном столе лежал небрежно оторванный клок бумаги. "Картошка на плите. Мясо в духовке. Мы в кино". Рядом письмо – от родителей.
Мама писала, что яблоки и крыжовник в этот год уродились, а клубнику улитка сильно поела; что в реке опять появилась рыба; что у Шемякиных занялся было пожар, но тушили всей улицей и потушили еще до пожарных, так что сгорели только сарай, поленница и часть штакетника, да старая липа ("Помнишь, ты маленький лазил, и Тошенька тот год лазил".) посохла от близкого огня; что она, мама, очень скучает по городу, но вернутся они не раньше октябрьских, потому что впятером в квартире тесно, – и тут же, испугавшись, что проговорилась, стала доказывать, что летом и осенью в городе отвратительно и для здоровья не полезно, а в деревне – рай.