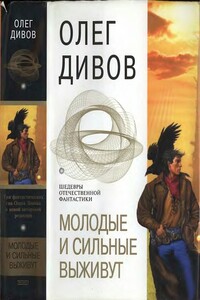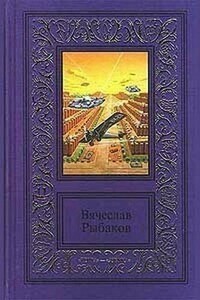Это было все. Без рук, без ног он добрался до дому, но, стоило войти, затрезвонил телефон – Вербицкий подождал, стоя у порога и как бы еще не придя, но телефон был непреклонен, пришлось поднять трубку. Свет померк у Вербицкого перед глазами – Инна. У нее был удивительный дар всегда звонить и появляться на редкость не вовремя. В двадцатый раз занудным своим голосом – от волнения еще более занудным, нежели обычно, – она стала рассказывать ему, какую фатальную он совершил ошибку. Ты просто не понимаешь, насколько я тебе нужна. Ты поймешь, но будет поздно. Я тебе не нравлюсь, но ты должен себя преодолеть, и я тебе понравлюсь. Наступит момент, когда ты поймешь, что ты один. Ты сейчас не понимаешь, но ты поймешь, когда наступит момент. Так она могла часами. С Вербицкого текло; мысленно проклиная все на свете, свободной рукой он стаскивал прилипшие брюки и рубашку, чтобы, как только пытка закончится, прыгнуть в душ. Он дождался паузы в ее монологе, коротко и корректно ответил и положил трубку.
И лишь грузно горбясь в горячен струе, он понял, что ему мешало, что беспокоило с самого утра. Симагин. И его вивисекторская работа.
Вербицкий вылез из душа, распахнул окна в парную ленинградскую духоту и, остывая, некоторое время ходил по квартире голый. Эти чертовы технари не ведают, что творят, – старательно не ведают, прячась за "нужно". Они не отвечают за последствия, эти слабоумные гении, подобные уже не флюсам, как специалисты времен Козьмы Пруткова, но грыжам, которые наживает цивилизация, поднимая все выше непомерную тяжесть неуправляемого прогресса. Их совершенно не заботит, выдержит ли человечество искушение техникой, искушение ростом искусственных возможностей. Ведь кто хватается за искусственные возможности? В первую очередь тот, кто уже не может сам. Тот, кто не в силах создавать и потому стремится заставлять. "Унужать". А ведь то, что дает тебе кто-то другой, никогда не будет тебе дорого и важно; оно всего лишь нужно, пока его нет. И, значит, подлецы, которые вооружают нас средствами, лишают нас целей. Нас... Неужели я тоже когда-нибудь так устану, что начну "унужать"? Нет, нет! Я человек человечества, и отвечаю за все, что творится на планете. Да, я отравлен, разбит, но права на борьбу у меня никто не отнял и отнять не сможет.
Эти мысли наполняли его силой. Казалось, вернулась молодость. Молодость? Это цель и цельность, это перспектива. Должна же быть главная цель, главный смысл. Вербицкий подошел к столу, где ютились битые литерами страницы бумаги. Взял одну из них. Неужели в этом мои смысл? Единственный, предельный результат меня и моей бездны, моего пламени? Он порывисто разодрал страницу пополам, потом еще пополам и чуть театральным жестом выпустил обрывки из рук. Обрывки, виляя, вразнобой спланировали на пол.
Как бомбардировщик, холодно и гордо пикирующий на цель, он с юга на север прошил город грохочущим тоннелем метро, и в груди его тоже клекотало и грохотало, словно и там неслись поезда, тянулись бесконечные эшелоны к фронту, где готовилось долгожданное наступление. Но пока он летел, на тусклом верху зарядил омерзительный злой дождь. Хмурясь, Вербицкий раскинул зонт – его в свое время привезла ему из ФРГ Инна – и брезгливо вышел в серый вертящийся кисель. Хорошо, хоть ветер ослабел, подумал он и тут же поймал себя: мне остались только негативные радости – не оттого, что есть приятное, а оттого, что нет неприятного.
Вербицкий шел медленно, и в какой-то момент осознал, что идет медленно, и попробовал идти быстро – не вязалась эта бесконечная поступь с той задачей, которую он взял – но сдался. Почему я должен и тут заставлять себя? Даже когда никто не видит? И без того я все время заставляю себя. Спать и то заставляю – не потому ложусь, что хочу, а потому, что, если не лечь, завтра будет тупая башка. Как хочу, так и иду. Затея казалась теперь бессмысленной, он никому и никогда не сможет помочь, лучше бы сидел дома в эту собачью погоду, но ведь дома нужно либо писать, либо читать, что написали другие.
Липкий брызгливый дождь остудил и испачкал воспрянувшую было гордость, наверное, это было предзнаменование, природа не пускала его к Симагину – и снова накатила тоска.