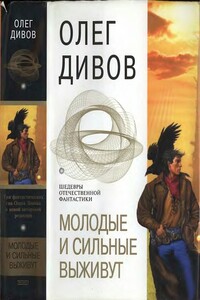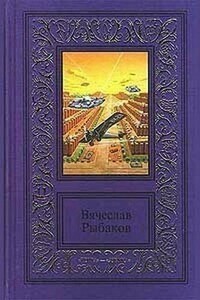– Откуда вы узнали, что надо прихватить с собой что-то из вещей? По книжкам?
– Не знаю… не помню. Пара любимых вещей, фотография… наверное, действительно из какой-то бульварной книжонки. В детстве мы все такое читаем иногда.
Бульварные книжонки… Характерец, снова подумала Александра Никитишна, беря из Асиных рук строгую черную записную книжку. Мельком полистала. Мало телефонов, мало имен. Очень ограниченный круг общения. Нелюдимый? Мама подавила? Такая может… Представляю, когда она влюблялась и пыталась стать частью своего беззаветно любимого – мужику надо просто глыбищей быть, чтобы под тяжестью этакой части не опрокинуться… Или, наоборот, в маму – чересчур разборчив, как золотоискатель? Почерк уже вполне мужской, не надломленный и не сдавленный – колючий, стремительный. Значит, скорее, в маму. Интересно бы взглянуть на почерк мамы, подумала Александра Никитишна. Впрочем, и так очевидно: парень серьезный, суровый и от мамы взял немало. А от папы? Да какое мне дело, собственно… Но бабье любопытство пересилило:
– Простите, Ася, но это существенно… Папа ваш где?
Ася на секунду замерла с нависшей над сумочкой рукой.
– А пес его знает, – спокойно ответила она затем. – Папа у нас не уродился. Это Антонов любимый галстук. На выпускном вечере он был в нем.
Галстук как галстук.
Зачем я продолжаю этот шутовской допрос? Зачем мучаю ее? Почему сразу не скажу, что это все для меня слишком серьезно? Что ей обращаться сейчас ко мне – все равно что поручать планирование десантной операции ковровому клоуну? Что я – просто балаболка?
– Это – его последняя фотография.
Очень неплох. Глаза – от мамы, несомненно. Вон громадные какие. Взгляд – открытый, чистый… щедрый. Представляю, как она этими вот глазищами, этим вот чистым щедрым взглядом снизу вверх смотрела на того, кто этого Антона ей делал. Какого Бога она в нем видела. Я все тебе отдам, мой князь. И ведь без обмана, без лицемерия, наверняка только им и дышала. А у князя пропускная способность на порядок ниже, чем требуется, чтобы столько переварить, он девяти десятых даримого просто не замечал; чтобы столько взять, нужно жить качественно иной жизнью, более высокой, более интенсивной, – а тот только чувствовал смутно, что происходит нечто характеризующее его не лучшим образом, для него даже унизительное… В дребезжащий моторчик от серийного мопеда залили ракетное топливо. Но мопед не стал ракетой – просто не завелся. Да, обидно было бы моторчику, имей он хоть толику чувствительности: ведь не пустой, что-то булькает в трубках, и явно не вода, явно что-то чрезвычайно калорийное – а ехать не получается… Впрочем, чуток поразмыслив, моторчик понял бы, что ему еще повезло – да, не завелся, но ведь и не взорвался! А ведь на волосок был. Немедленно слейте этот ужас! Пока не сольете – даже и не пробуйте меня завести! Представляю, как парень в конце концов начал ее бояться… Похоже, подбородок у мальчика оттуда, от князя; да, смазлив был князь. Александра Никитишна украдкой глянула поверх фотографии на Асю; та сидела, рассеянно глядя в сторону, положив ногу на ногу – ноги красивые до сих пор; сколько же все-таки ей лет? тридцать пять? тридцать шесть? тридцать семь? – и зверски хотела курить. Ну зачем ты себя мучаешь, Ася, зачем эта гордыня? Вот уж точно диавольская… Все мы пытаемся казаться лучше, чем мы есть. И о других думаем лучше, чем они есть, – если только не думаем о них хуже, чем они есть. Но всему нужна мера. Как ощетинилась на мою догадку про курево – так и держишь теперь планку. Передо мной-то зачем? А влюбилась в козла. А может, и не в козла? Просто не сдюжил он быть хоть вполовину таким, каким ты его видела. Но хоть попытался он напрячься – или шарахнулся сразу? Пожалуй, это – вопрос вопросов. От ответа зависит и оценка. Пытается человек или нет? Мужественное поражение – или инфантильное "чурики"? Это у Шекспира, кажется: коль бедный друг бессилен, благородство должно ценить старанье без успеха… А ведь сколько приличных, пусть даже и не крупных людей наверняка вздыхало по тебе, Ася, в последующие годы. И сразу из памяти подал голос незабвенный Шарапов: красивая женщина, хорошего человека могла бы осчастливить… Могла бы, могла бы… все, пошли вязать Ручечника.