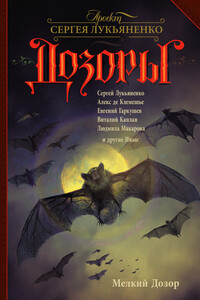Майнц с Вольтовым вдвоем вынесли Марковского в сени, там его прибрали дневальные.
* * *
Предкарусельный день – самый тяжкий, пережить его едва ли не страшнее, чем карусель открутить. График составлен так ловко, чтобы лишнего грамма электры непокойник не получал. Оттого последний день тянется как целый век. А ты попробуй протяни век в мертвой Москве.
Вдоль колонны, скрипя ржавыми сочленениями, двинулись карлы, сопровождаемые острым запахом солярки. Майнц слышал байки – карлы, мол, не полностью механические, а будто бы сидит в каждой специальный человек. Громады они, конечно, знатные, лилипут или ребенок внутри всяко поместится. Да кто ж живого человека на такую работу поставит? Живых в наше время экономят, особенно детей. Живому наверх, в город, выбраться никак невозможно.
Равнодушные металлические щупальца карлы проверили Майнца на предмет контрабанды, беспощадно открывая холоду и без того промерзшие кости. Из контрабанды у Майнца были табак, завернутый в мятую бумажку, спички, тощая записная книжечка, исписанная убористым почерком, да огрызок карандаша. Табаком карлы не интересовались, а карандаш, спички и книжечку Майнц надежно припрятал в левом валенке.
Двинулись к выходу крытым коридором. Коридор этот проложен наружу мимо подземного подъемника. Потому карлы здесь злые и подозрительные. Нет-нет – а найдется непокойник, мечтающий вернуться вниз, в теплую Подземь, к живым. Таким карлы сразу хребет ломают, пощады не жди. Чтоб остальным неповадно было.
Коридор узкий, колонна по двое. Смотрит Майнц – рядом идет Алёшка.
Прошли первые ворота. Здесь крыша закончилась. Одна радость у непокойника – небо видит. Небо сизое, низкое; хмурые тучи нависли прямо над головой. Ничего в нем вроде и нет – а все равно утешает.
На востоке потянулась полоска рассвета, фиолетовая, неяркая. Видимости никакой: серый снег заместил собой воздух, набился в глаза и ноздри, хлещет по лицу.
– Вот тебе и весь рассвет, – сказал Алёшка таким тоном, будто продолжал прерванный разговор. – Ты, Лев Давидыч, помнишь, какие рассветы были раньше? Какое небо было?
Майнц не стал отвечать. Память непокойника – чужой альбом с семейными фотокарточками. Листаешь его равнодушно, думая: скорей бы последняя страница. Но иной раз среди парадных портретов и замысловатых интерьеров попадется деталь, от которой сердце замирает и в глазах появляется резь. Ты и сам не помнишь, почему тебе так важна эта надколотая чашка в руках у чужого младенца. Или потрескавшиеся обои за спиной незнакомки. Но тоска накрывает – хоть плачь.
За воротами жестянок меньше, и бдительность они сбавляют. За воротами дёру дать – дураков нет. Здесь уже карлы как бы и не надзирают, а охраняют. Мало ли что. Иной раз пройдутся по спине щупальцем, но нежно так, для порядка.
Подступил, взял за горло, пробрался во все косточки жгучий мороз. Даже Алёшка притих. Буратина буратиной, а понимает – тепло свое, не казенное. Беречь его надо, а не на пустые разговоры тратить.
Прошли по мосту на Балчуг, где круглые сутки дымит Раушская электростанция. На станцию вчера еще отписал Майнца бригадир – проинспектировать исправность труб вместо постоянного станционного мастера, который нежданно угодил в упыри. Теперь Майнц прикидывал, как изловчиться, чтоб не остаться приписанным к станции. С одной стороны, это, считай, повышение. И работа непыльная, если руки с нужной стороны приделаны. С другой – станционные всегда у карл на виду, оттого их чаще гоняют на торфы – без всякой очереди. А торф из-подо льда копать – хуже нет работы для непокойника.
– Ты, Лев Давидыч, сколько уже здесь? – снова вступил Алёшка. Майнц привычно смолчал, только покосился на буратину неодобрительно: молодой совсем, чуть за двадцать; лицо открытое, безволосое, характер незлобивый. И чем не угодил? Предчувствие беды грызло Майнца острыми зубами.
– Да ты хоть слово ответь, Лев Давидыч! Люди же, не карлы железные. Разговаривать надо! Общаться.
Вот ведь привязчивый. Три дня – с тех пор, как доставили свежих буратин из Подземи, – ходил Алёшка за Майнцем хвостом. Ни к кому больше не лип. Другой на его месте уже проучил бы Алёшку как следует. А Майнц отворачивался да отмалчивался – авось буратина сам отвяжется. Припоминал полоумную старушку из Александровского сада. На нее случайно, вскользь, глянешь, и она тотчас принимается рассказывать историю своего семейства от сотворения мира. Таков был и Алёшка.