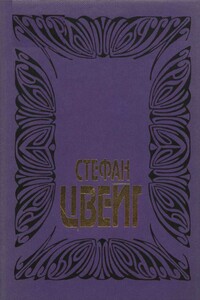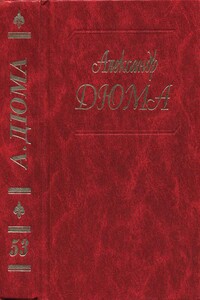— Свой толк есть, Сидор Тарасович. A вы как на счет выборов полагаете? Ведь не очень-то вы им желательны, особливо после дела с Макаркой. Неловко выбрали время, увлеклись-таки маленько, — подсмеивался писарь.
Старшина отвернулся и поправил у себя на груди медаль.
— Их желаньев то не больно кто спрашивает, — сказал он сухо.
— Ну, все же без спроса нельзя, — хотя бы для формальности одной, — продолжал в том же тоне писарь: — потому ежели мы попирать закон будем, то, стало, и им туда же дорогу укажем. Нынче, Сидор Тарасович, народ стал переимчив.
Старшина зевнул, давая этим понять, что разговор не интересует его, но писарь не понял и внушительно, с оттенком добродушия, продолжал: — Надо умеренность соблюдать, Сидор Тарасович, a вы уж так пошли, словно над вами нет и закона.
— Куда как ты смешно рассуждаешь! — перебил его старшина. — Ну, на что мужику закон? Вот хоть бы тебя взять: назначил тебя господин посредник за то, что твоя жена ихней супруге чем-то угодила, и баста! и разговору никакого… Причем же тут закон? — кольнул в свою очередь старшина писаря.
— Оно так-то так, — согласился писарь, — да все, знаете, как за букву-то обеими руками держишься, так оно верней… A вон никак и сами Петр Иванович едут! — прибавил он, растирая ногой поспешно брошенную папиросу.
— Он самый и есть, — сказал старшина, — обдергиваясь и поправляя медаль.
К крыльцу волостного правления лихо подкатила арендаторская тройка вороных. Мужики сняли шапки; писарь и старшина быстро спустились с крыльца, почтительно вытянувшись. Закутанный в скунсовый воротник, вылез из саней посредник и, поддерживаемый с обеих сторон писарем и старшиной, медленно и важно поднялся на лестницу.
— Все готово? — спросил он на ходу, обращаясь к старшине.
Как изволили приказать, — ответил тот, почтительно кланяясь спине посредника.
Вошли в волостное правление. Писарь вдруг куда-то исчез, словно провалился, a старшина, приняв посредникову шубу, остановился у двери, слегка прислонившись к притоке.
— A на тебя, брат, опять жалоба, — сказал посредник, смотрясь в зеркало, которое имело способность отражать все в голубом цвете.
Старшина сделал несколько шагов вперед и смотрел с вопросительным знаком на лице.
— И, как надо полагать, основательная, — продолжал посредник, внимательно себя причесывая.
— Это на счет Макарки? — осведомился осторожно старшина, предупреждая посредника.
— Да на счет Макара Дуботовки, — подтвердил тем же тоном Петр Иванович, повернувшись затылком к голубому зеркалу и взглянув на старшину.
— Помилуйте, ваше высокоблагородие, самый распутный мужик, его бы…
— Однако, ты его изувечил, — прервал посредник, подходя к окну.
— Я? тоись пальцем не тронул, как перед истинным Богом, — божился Кулак, нагло призывая Бога в свидетели. — Он первый в драку полез… Такой мужик, что всю волость взбунтовал, как есть на всю площадь кричал… Вы, говорит, ребята, смотрите во что въехало волостное правление; наши, говорит, гроши да по чужим карманам пошли. Даже осмелился про ваше высокоблагородие помянуть. Только этих непристойных слов глупого мужичонки повторять не хочется. Вы, говорит, нас с посредником жиду продали. Писарь засвидетельствовать может, как перед истинным Богом.
— Ну? — произнес посредник, быстро обернувшись и смотря на старшину.
— Я его в холодную, пять дён на хлебе и воде продержал, думал — усмирится, прочувствует, a он вышел, да тут же, подлец, на площади и начал? Опять про ваше высокоблагородие помянул… Тут уж я не мог себя сдержать и, признаться, маленько точно что его помял…
— Так помял, что он до сих пор не может подняться…
Ленивый мужик, ваше высокоблагородие, хотя, с другой стороны, точно, что я от всей души… Да как же можно-с, — говорил старшина с возрастающим негодованием, — когда он осмелился про эдакую, можно сказать, особу…
Петр Иванович даже поморщился: что-то в роде физической брезгливости мгновенно пробежало по его нервному, желчному лицу; но это было всего одна минута. Он тотчас же овладел собою.
— Кого хотят? не слыхал? — переменил он разговор.
— Андрея Качалова, — ответил Кулак шепотом, подходя к столу и наклоняясь.