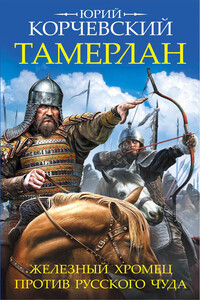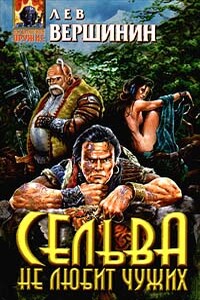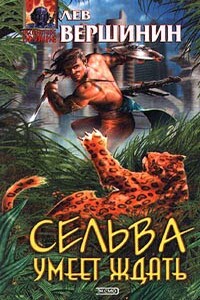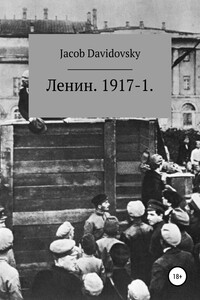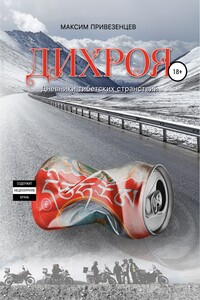А на исходе седьмого дня, после обычнейшей проверки пульса и вечернего осмотра, выйдя в соседний зал, повесился на собственном поясе Архий из Митилены, знаменитейший целитель и диагност, ученик самого Филиппа Акарнанского, спасшего некогда Бога от верной смерти, но увы, покойного, и не способного теперь прийти на помощь; Архий висел, вывалив набрякший синий язык, глаза его были вытаращены, а на полу сиротливо валялся клочок папируса с наспех нацарапанными словами последнего, что мог он сказать остающимся жить: «Лучше уж самому!»; сразу после обнаружения тела, по приказу мрачного и озабоченного Пердикки, хранителя царской печати, за прочими лекарями был установлен неусыпный надзор с целью предотвратить подобные побеги от заслуженной кары в случае, если произойдет наихудшее.
Самоубийство Архия находящиеся во дворце попытались скрыть, зарубив на всякий случай и раба, обнаружившего тело, и служителей, тело снимавших, и даже нескольких стражников, не показавшихся Пердикке вполне благонадежными. Тщетно. Уже к полуночи весть о враче, наложившем на себя руки, достигла полисадиев, и в палатках третий день не спавших воинов родился нелепейший, неправдоподобный, но, видимо, именно потому и принимаемый на веру слух о том, что Царя Царей отравили. Кто? – с уверенностью назвать этого человека не мог ни один из сплетников; назывались имена разные и многие, даже слишком многие, и лишь это соображение пока что удерживало войско от бунта, ибо отомстить за смерть Бога и покарать его губителей ветераны готовы были немедленно, но перебить своих стратегов[2] до единого все же не желали, справедливо полагая, что погибнут здесь, в глубинах так и не ставшей для большинства родной Азии, оставшись без командиров…
А глубокой ночью, спустя всего лишь несколько часов после того, как тело несчастного Архия было брошено в ров царского зверинца на радость почти неделю голодающим хищникам, Бог очнулся.
Он открыл глаза, обвел опочивальню потусторонним взглядом и чуть слышно попросил пить.
И лекарь, чей черед был в эту ночь бодрствовать над постелью больного, обливаясь слезами счастья, поил его подслащенными целебными отварами, и рабы суетились, спешно перестилая перины, потому что очнувшийся слабым голосом пожаловался на неудобство, и архиграмматик[3] Эвмен, правая рука хранителя печати, торопливо наставлял своих неприметных людей, разъясняя им, как, когда и по какой цене организовывать с утра вспышки народного ликования, и где-то на женской половине гигантского дворца Навуходоносора, услышав от рабыни радостную весть, всплеснула руками и рухнула без чувств молоденькая чернокосая женщина с огромным, круто выпирающим животом, и почти неделю молчавший, словно усыпальница, полутемный и хмурый дворец вспыхнул сотнями свечей, факелов и лампад, уже самим сиянием своим извещая город, воинские лагеря и всю Ойкумену о свершившемся чуде.
Один за другим, беспощадно нахлестывая коней, влетали в похожий на сад дворцовый двор стратеги, не глядя швыряли конюхам поводья и торопливо, увязая в высоком ворсе персидских ковров окованными медью эндромидами[4], стекались к высоченным, в три человеческих роста, дверям покоя, где лежал, медленно возвращаясь в этот мир, Бог; они почти пробегали последние коридоры и все, без разбора – Птолемей Лаг, Лисимах, Селевк Мелеагр, Кратер, одноглазый Антигон, не говоря уж о десятках иных, помельче, – замирали, ткнувшись в грудь кряжисто-несокрушимого, закованного в пластинчатую бактрийскую броню Пердикки, стоящего, положив ладонь на рукоять махайры[5], у входа в опочивальню.
«Да, Царю Царей лучше. Да, пришел в себя. Да, может говорить. Нет, не пущу никого без повеления!»
И стратеги, узнав главное, послушно усаживались на обтянутые мягчайшей кожей нерожденных телят сиденья, готовясь к долгому ожиданию и провожая завистливыми взглядами мечущихся, снующих из двери и обратно врачей. Никто из них не требовал ничего и ни на чем не настаивал, ибо каждый знал, что Пердикки не меняет своих решений, но ни один и не собрался уходить.
Ни им, прославленным в битвах, ни всезнающему Эвмену, ни самому хранителю печати не было известно, сколько придется ждать, прежде чем Бог соизволит призвать их к себе. Как ведомо было и то, что Бог никого не желает видеть.