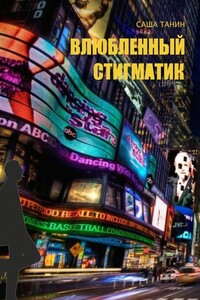Но родители иначе истолковывали этот случай. Они решили, что мне все же стоит вырезать гланды, причем желательно сделать это до тридцати. По дороге в клинику мама повторяла, что мне будут давать мороженого, сколько захочу. Но я не любила мороженое. Возможно, потому, что мне никак не удавалось его толком попробовать из-за постоянных простуд. Так что я не особо утешилась и завела рев, как только осталась одна, без мамы в жесткой больничной пижаме. От рева у меня поднялась высокая температура, и операцию пришлось отложить. Но вот, наконец, я, умытая, сижу в красивом металлическом кресле на шарнирах. Мне что-то закапывают в нос и велят открыть рот. Делают уколы. Я даже не замечаю, как в открытый мой рот врач залезает огромными кривыми ножницами. Я замечаю только, когда она их вынимает.
В ножницах зажата темно-красная сморщенная слива. Врач смеется, что-то говорит. Я плююсь кровью. Вскоре изо рта вылезает вторая такая же слива. Мне протягивают миску с нарезанными кусочками вафельного мороженого. Кормят с ложки. Голова моя от мороженого проясняется, и я слышу, как врач спрашивает, не хочу ли я еще раз увидеть или взять с собой, в бумажку, свои гланды. Мороженое застревает в моем искромсанном горле. Гланды я видеть и, тем более брать с собой, совсем не хочу.
После операции я совершенно перестала болеть ангиной, но начала скрежетать зубами во сне. Домработница Нюра боялась оставаться со мной на ночь в одной комнате. К тому же у меня начался возрастной лунатизм. Я стала заговаривать с ней по ночам, и Нюра обижалась, что я совсем не слушаю ее ответов. А однажды ночью я встала, но обратно легла не в свою постель, а в Нюрину. Вернее прямо на саму Нюру и стала перетягивать на себя ее одеяло. Нюра истошно закричала. Витя проснулся и снял меня с нее. Наутро родители очень смеялись. А Нюра обиделась и неделю со мной не разговаривала.
Зубами я продолжала скрежетать лет до одиннадцати, когда все прекратилось само собой и у меня началась жестокая болезнь печени. Врачи сразу определили, что это либо наследственное, либо от скрытой желтухи, которая была такая скрытая, что вовремя ее никто не заметил.
Мой брат Витя никогда не умел танцевать индийские танцы, да еще женскую партию. А меня обучил. Теоретически. Объяснил, куда надо двигать шею, куда тянуть руки, какой частью тела когда вращать. Это умение двигаться как на шарнирах немало помогало мне в самых разных жизненных обстоятельствах. Например, когда я оказалась в больнице в третий раз. Теперь уже из-за печени.
Мой дед, папин папа, был архитектором. Он построил много разных больниц и родильных домов и написал огромную толстую книгу, которая называется «Строительство лечебных зданий». В Москве он проектировал большую клинику для детей где-то на Ломоносовском проспекте. Туда меня и положили на обследование.
Мой лечащий врач, женщина огромного роста с крошечным крашенным ротиком, верхняя губка которого была заячьей, писала диссертацию. Она работала в нервном отделении, и тема ее была о связи всех болезней с нервами. Мою печень тоже надо было как можно крепче привязать к нервам. Так я очутилась на шестом этаже огромного здания из розового кирпича. Здание строилось много лет назад на самой окраине, вдали от гвалта московских улиц. Но скоро клиника была окружена сцеплениями дорог, и перекресток этот стал одним из самых бойких в Москве. Почти в любом месте больницы был слышен неумолчный гул машин, скрежет автобусных тормозов на светофорах и позванивание трамваев.
Нервное предполагалось как самое тихое отделение – его окна выходили в квадратный колодезный двор, в центре которого был разбит газон, а все проемы и арки, ведущие на волю, замыкались высокими резными воротами.
Входом и выходом из клиники служила тяжеленная дверь в центре ветвистого здания. У двери, не доходя гардероба, сидел интеллигентного вида дяденька за пустым письменным столом. Чуть поодаль стояла женщина в ватнике цвета хаки. Ватник украшался погонами и военным ремнем со звездой. Наверное, подумала я, ночью она ходит с ружьем и собакой.