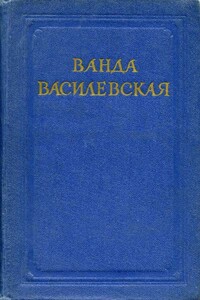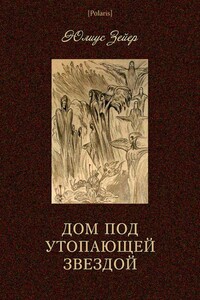Худые пальцы судорожно сжимаются. В пергаментных губах ни кровинки.
— Не плачьте, адвокат у него будет, — тихо говорит Наталка.
Из коляски слышится писк ребенка.
— Сколько ей?
— Уже пять месяцев, а вот какая маленькая. Что ж делать, — говорит она со вздохом, завертывая в чистую пеленку желтое, увядшее тельце. — Чем мне ее кормить, когда сама едва на ногах держишься? А теперь вот еще…
Голос снова прерывается от рыдания. Губки ребенка жадно ловят высохшую грудь.
Со двора доносится кашель.
— Это Сташек?
— Сташек. Третий месяц уж так кашляет.
— У врача были?
— Была, — жестко отвечает женщина.
— Что ж, неужели ничего не посоветовал?
— Советовал, советовал, как же! Хорошее питание, светлая комната, удобства. Нас в этой каморке четверо да жилец, сапожник, — пятый. И то, наверно, скоро выселят, за квартиру уже три месяца не плачено. Вот и будет у него светлая комната под открытым небом!
Наталка отправляется дальше. Подвальные комнаты, чердаки, смрадные закоулки, прогнившие полы, протекающие потолки.
…Простое, крестьянское, грубо вытесанное лицо. Уголком черного платка она отирает слезы.
— Ведь единственный сын. Моего-то на войне убили, так он теперь мой кормилец, мой сынок, мое все, — шепчет она, улыбаясь сквозь слезы. — Такой мальчик! Такой добрый, милый мальчик! Я не о себе плачу, Натальця, я говорю: за правое дело сидит, за меня, за всех нас. Да что я тебе буду говорить, сама лучше меня знаешь. За правое дело сидит. Ну только так мне его жалко, так жалко! Такой добрый, такой любящий. — По морщинкам текут слезы. — Кабы я могла вместо него отсидеть! Но уж пусть, ведь за правое дело!
Над лужицами пригородной улицы окрашенный в голубую краску сельский домик. В сенях несколько дверей.
— Где здесь живет такой-то?
— Вон там, та дверь, только его дома нет. Посадили. Одни женщины дома.
— Ребенку всего две недели, — ведь и года нет, как поженились, а тут хоть клади зубы на полку! Собрать разве всю семью да в Вислу!
— Оставьте, мама, успокойтесь, — мягко говорит хорошенькая молодая женщина.
— Успокоиться? Уж на что спокойней, даже и огонь в печке не беспокоит, потому как нет его. Мы уж и забор сожгли. Теперь разве за табуретки приняться…
— Не причитайте, мама. Через неделю суд. Вернется.
— Как же, вернется!
— Вернется. Он же ничего дурного не делал. А потребовать свое всякому разрешается.
С тяжелым сердцем возвращаясь домой, Наталка думает о том, как странно прозвучало это слово «разрешается». Потому что всем им, обитателям подвалов и чердаков, разрешается только одно — изо дня в день умирать с голоду, изо дня в день смотреть на все бледнеющие личики детей, слышать все более тихий плач в колыбелях. Им разрешается одно — молчаливо умирать. Сотни лет учили их этому, учили школа, армия, церковь, внушали работодатель, учитель, ксендз.
— И все же не научили! — говорит себе Наталка, пробираясь по вязкой грязи. — В любой из этих лачуг живет бунт. Иной раз бунт бессильный, растворяющийся в слезах, но чаще — стискивающий кулаки, жесткие, беспощадные кулаки угнетенного, замученного человека.
Арестовали и Анатоля. Как раз в тот день, когда заканчивалась победоносная забастовка.
Сквозь густую проволочную сетку смотрит Наталка на него. Коротко остриженная голова. Как странно она выглядит без золотых волос. Слезы подступают к горлу. С этой стороны проволочной сетки — улыбка.
— Наталка!
— Нет, нет, я уже ничего.
— Была, где я говорил?
— Была.
— Не забудь, еще…
— Хорошо.
— Да постарайся…
— Ну конечно, Анатоль.
Одно, другое, третье, еще то-то, еще то-то. Тысячи дел. Ох, этот далекий Анатоль, вечно поглощенный мыслями о других. Маленькое сердце мучительно сжимается от чувства собственной слабости. Маленькое, покорное сердце.
Теплый взгляд голубых глаз.
— Ну, будь же умницей, храбрись, цыпленок. Это же пустяки!
Да, правда. Она ведь знает, что его вот-вот освободят. Но эта сетка! Дерзкое лицо Анатоля будто в клетке. Будто орел в клетке — к ее глазам снова приливают слезы. Но она всеми силами сдерживает их. Нельзя. Ведь она же его Наталка, она должна уметь так же улыбнуться и в самую тяжкую минуту, как он.