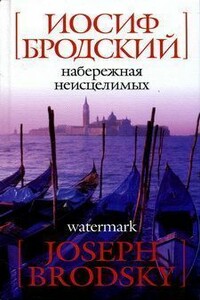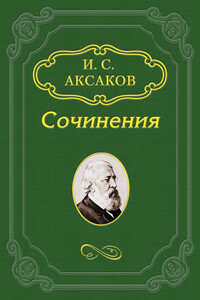Что же касается той степени отчаяния при утрате любимого существа, которая выражается в нашей готовности поменяться с ним местами, то заведомая неосуществимость подобного пожелания сама по себе достаточно утешительна, ибо служит неким эмоциональным пределом, избавляющим воображение от дальнейшей ответственности. Качество же видения, ответственное за восприятие "родины" как "одной из звезд", свидетельствует не только о способности автора "Новогоднего" к перемене мест вычитаемых, но и о способности ее воображения покинуть своего героя и взглянуть даже на него со стороны. Ибо это не столько Рильке, который "видит" свою вчерашнюю родину как одну из звезд, сколько автор стихотворения "видит" Рильке "видящим" все это. И возникает естественный вопрос: где находится автор? и как он там оказался?
Что до первой половины вопроса, то можно удовлетвориться ссылкой на 38-ю строчку из "На смерть князя Мещерского" Г. Р. Державина*. На вторую -лучше всех отвечает сама
-----------------
Имеется в виду следующий отрывок из стихотворения Г. Державина "На смерть к. Мещерского" (строки 33-40):
Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерский! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвым удалился;
Здесь персть твоя, а духа нет.
Где ж он? -- Он там; -- Где там? -- Не знаем. (38)
Мы только плачем и взываем:
О горе нам, рожденным в свет!
(Цит. по изданию: Г. Державин. Стихотворения. -- М., 1947.)
Цветаева, и немного ниже мы обратимся к цитатам. Покамест же хотелось бы высказать предположение, что навык отстранения -- от действительности, от текста, от себя, от мыслей о себе -- являющийся едва ли не первой предпосылкой творчества и присущий в определенной степени всякому литератору, развился в случае Цветаевой до стадии инстинкта. То, что начиналось как литературный прием, превратилось в форму существования. И не только потому, что она была от многого (включая Отечество, читателей, признание) физически отстраняема. И не потому, что на ее век выпало слишком много того, от чего можно только отстраниться, необходимо отстраниться. Вышеупомянутая трансформация произошла потому, что Цветаева-поэт была тождественна Цветаевой-человеку; между словом и делом, между искусством и существованием для нее не стояло ни запятой, ни даже тире: Цветаева ставила там знак равенства. Отсюда следует, что прием переносится в жизнь, что развивается не мастерство, а душа, что, в конце концов, это одно и то же. До какого-то момента стих выступает в роли наставника души; потом -- и довольно скоро -- наоборот. "Новогоднее" писалось тогда, когда душе уже давно стало нечему учиться у литературы, даже у Рильке. Потому-то и оказалось возможным для автора "Новогоднего" не только увидеть мир глазами покинувшего этот мир поэта, но и взглянуть на самого поэта со стороны, извне -- оттуда, где душа этого поэта еще не побывала. Иными словами, качество зрения определяется метафизическими возможностями индивидуума, которые, в свою очередь, являются залогом бесконечности если не математической, то вокальной.
Так начинается это стихотворение -- с сочетания крайних степеней отчаяния и отстранения. Психологически это более чем оправдано, ибо последнее часто является прямым следствием и выражением первого; особенно в случае чьей-либо смерти, исключающей возможность адекватной реакции. (Не есть ли искусство вообще замена этой несуществующей эмоции? И поэтическое искусство в особенности? И если это так, не является ли жанр стихов "на смерть поэта" как бы логическим апофеозом и целью поэзии: жертвой следствия на алтарь причины?). Взаимная их зависимость настолько очевидна, что трудно порой избежать отождествления отчаяния с отстранением. Во всяком случае, постараемся не забывать о родословной последнего, говоря о "Новогоднем": отстранение является одновременно методом и темой этого стихотворения.
Дабы не соскользнуть в патетику (чем развитие метафоры "родины -- одной из звезд" могло быть чревато), а также в силу своей склонности к конкретному, к реализму, Цветаева посвящает следующие шестнадцать строк довольно подробному описанию обстоятельств, при которых она узнала о смерти Рильке. Экстатичности предыдущих 8 строк в этом описании (данном в форме диалога с посетителем -- М. Сломом -- предлагающим ей "дать статью" о Рильке) противопоставляется буквализм прямой речи. Естественность, непредсказуемость рифм, оснащающих этот диалог, отрывистость реплик сообщают этому пассажу характер дневниковой записи, почти прозаическую достоверность. В то же время динамика самих реплик, усиливаемая как их односложностью, так и диалектичностью их содержания, порождает ощущение скорописи, желания поскорее отделаться от всех этих деталей и перейти к главному. Стремясь к эффекту реалистичности, Цветаева пользуется любыми средствами, главное из которых -- смешение языковых планов, позволяющее ей (иногда в одной строчке) передать всю психологическую гамму, порождаемую той или иной ситуацией. Так, перебрасываясь с требующим статьи посетителем, она узнает о месте, где Рильке умер, -- пансионе Valmont, около Лозанны, и следует назывное предложение, возникающее даже без подготавливающего такую информацию вопроса "где":