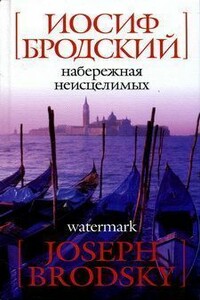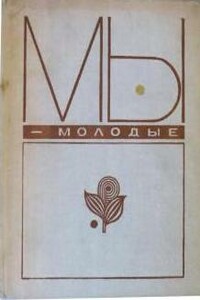Однако и этого довода оказывается недостаточно. Ибо самые угрызения, самые мысли о языке, воспоминания детства, перифразы из самого Рильке, наконец, сама поэзия с ее рифмами и образами -- все, что примиряет с действительностью, -- представляются автору бегством, отвлечением от оной:
Отвлекаюсь?
-- вопрошает Цветаева, оглядываясь на предыдущую строфу, но, по сути, на все стихотворение в целом, на свои не столько лирические, сколько чувством вины продиктованные отступления.
В целом можно заметить, что сила Цветаевой -- именно в ее психологическом реализме, в этом ничем и никем не умиротворяемом голосе совести, звучащем в ее стихе либо как тема, либо -- как минимум -- в качестве постскриптума. Одно из возможных определений ее творчества, это -русское придаточное предложение, поставленное на службу кальвинизму. Другой вариант: кальвинизм в объятиях этого придаточного предложения. Во всяком случае, никто не продемонстрировал конгениальности данного мировоззрения и данной грамматики с большей очевидностью, чем Цветаева. Разумеется, жесткость взаимоотношений индивидуума с самим собой обладает определенной эстетикой; но, пожалуй, не существует более поглощающей, более емкой и более естественной формы для самоанализа, нежели та, что заложена в многоступенчатом синтаксисе русского сложно-придаточного предложения. Облеченный в эту форму кальвинизм заходит ("заводит") индивидуума гораздо дальше, чем он оказался бы, пользуясь родным для кальвинизма немецким. Настолько далеко, что от немецкого остаются "самые лучшие воспоминания", что немецкий становится языком нежности:
Отвлекаюсь? Но такой и вещи
Не найдется -- от тебя отвлечься.
Каждый помысел, любой, Du Liber
Слог в тебя ведет -- о чем бы ни был
Толк...
Это Du Liber -- одновременно и дань чувству вины ("буквы/ Русские пошли взамен немецких"), и от этой вины освобождение. Кроме того, за ним стоит чисто личное, интимное, почти физическое стремление приблизиться к Рильке -коснуться его естественным для него образом -- звуком родной для него речи. Но если бы дело было только в этом, Цветаева, поэт технически чрезвычайно разносторонний, на немецкий бы не перешла, нашла бы в своей палитре иные средства вышеупомянутые ощущения выразить. Дело, вероятно, в том, что по-русски Цветаева Du Liber уже произнесла в начале стихотворения: "Человек вошел -- любой -- (любимый -- /ты)". Повторение слов в стихах вообще не рекомендуется; при повторении же слов с заведомо позитивной окраской риск тавтологии выше обыкновенного. Уже хотя бы поэтому Цветаевой было необходимо перейти на другой язык, и немецкий сыграл здесь роль этого другого языка. Du Liber употреблен ею здесь не столько семантически, сколько фонетически. Прежде всего потому, что "Новогоднее" -- стихотворение не макароническое и поэтому семантическая натрузка, на Du Liber приходящаяся, либо слишком высока, либо ничтожна. Первое маловероятно, ибо Du Liber произносится Цветаевой почти шепотом и с автоматизмом человека, для которого "русского родней немецкий". Du Liber просто то самое, "как свое" произносимое "блаженное бессмысленное слово", и его обобщающая блаженно-бессмысленная роль только подтверждается не менее беспредметной атмосферой, сопутствующей ему рифмы "о чем бы ни был". Таким образом, остается второе, то есть чистая фонетика. Du Liber, вкрапленное в массу русского текста, есть прежде всего звук -- не русский, но и необязательно немецкий: как всякий звук. Ощущение, возникающее в результате употребления иностранного слова, -- ощущение прежде всего непосредственно фонетическое и поэтому как бы более личное, частное: глаз или ухо реагирует прежде рассудка. Иными словами, Цветаева употребляет здесь Du Liber не в его собственном немецком, а в надязыковом значении.
Переход на другой язык для иллюстрации душевного состояния -- средство достаточно крайнее и уже само по себе свидетельствующее о данном состоянии. Но поэзия, в сущности, сама есть некий другой язык -- или: перевод с оного. Употребление немецкого Du Liber -- попытка Цветаевой приблизиться к тому оригиналу, который она определяет в следующих за рифмой к Du Liber, может быть, самых значительных в истории русской поэзии скобках: