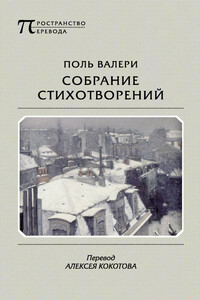Кризис военный, быть может, уже на исходе. Кризис экономический еще явствен во всей своей силе; но кризис интеллектуальный, более тонкий и по самой природе принимающий наиболее обманчивую видимость, ибо место его действия — законная область притворства, — этот кризис с трудом позволяет распознать свою подлинную ступень, свою фазу.
Никому не дано сказать, что окажется завтра живым или мертвым в литературе, в философии, в эстетике.
Еще никому не ведомо, какие идеи и какие способы их выражения будут занесены в список утрат, какие новшества будут вынесены на свет. Правда, надежда живет и пост вполголоса:
Et cum vorandi vicerit libidinem
Late triumphet imperator spiritus *.
* И, победив прожорливую похоть,
Повсеместно восторжествует полководец духа (латин.).
Однако надежда есть только недоверие живого существа к точным предвидениям своего рассудка. Она внушает, что всякое заключение, неблагоприятное для данного существа, должно быть ошибкой его рассудка. Но факты явственны и безжалостны: вот тысячи молодых писателей и молодых художников, которые умерли; вот потерянная иллюзия европейской культуры и очевидное бессилие что‑либо спасти; вот наука, смертельно раненная в нравственные свои притязания и как бы обесчещенная жестокостью своего использования; вот идеализм, едва ли вышедший победителем, глубоко опустошенный, ответственный за свои мечты; реализм, разочарованный, побитый, подавленный преступлениями и ошибками; стяжательство и самоотречение, равно осмеянные; верования, перемешавшиеся во всех странах, — крест против креста, полумесяц против полумесяца; вот, наконец, даже скептики, выбитые из колеи событиями, такими внезапными, такими неистовыми, такими волнующими, тешащимися нашими мыслями, как кошка мышью, — скептики, утратившие свои сомнения, снова нашедшие их и опять потерявшие и разучившиеся пользоваться силами своего рассудка.
Качка на корабле была так сильна, что даже наиболее расчетливо подвешенные светильники в конце концов опрокинулись.
Что дает кризису духа глубину и значительность, это — состояние, в котором он застиг больного.
У меня нет ни времени, ни сил, чтобы обрисовать духовное состояние Европы в 1914 году. Да и кто решился бы начертать картину этого состояния? Тема огромна: она требует знаний всяческого рода, беспредельной осведомленности. В самом деле, когда речь идет о комплексе такой сложности, — трудность восстановления прошлого, даже только что отошедшего, совершенно такова же, как трудность построения будущего, даже ближайшего: или, вернее, трудность та же. Пророк сидит в той же яме, что и историк. Пусть сидят!
Мне же нужно нынче лишь смутное и общее воспоминание о том, о чем думалось в кануны войны, об исканиях, которые шли, о произведениях, которые выпускались в свет.
И вот ежели я миную какие бы то ни было детали и ограничиваю себя убыстренными впечатлениями и той естественной целокупностью, которая создается мгновенным восприятием, я не вижу ничего! Ничего, — хотя бы это ничто и было бесконечно богато.
Физики учат нас, что, ежели бы наш глаз мог вынести пребывание в раскаленной добела печи, он не увидел бы ничего. Никаких световых различий нет в ней, которые позволили бы отличить точки пространства. Это огромная, окованная энергия ведет к невидимости, к неощутимому равенству. Но равенство подобного рода есть не что иное, как беспорядок, пребывающий в совершенном состоянии.
В чем же состоял этот беспорядок нашей духовной Европы?
В свободном сосуществовании во всех образованных умах самых несхожих идей, самых противоречивых принципов жизни и познания. Такова отличительная черта модерна.
Я отнюдь не отвожу от себя задачи обобщить понятие «модерна» и применить его к известному складу бытия, — вместо того чтобы пользоваться им в качестве чистого синонима «современности». Существуют в истории эпохи и места, куда мы можем ввести себя, мы — люди модерна, без боязни чрезмерно нарушить гармонию тех времен, не получая облика предметов чрезмерно забавных, чрезмерно заметных, — оскорбительных, чужеродных, нерастворимых существ.
Там, где наше появление вызвало бы наименьшую сенсацию, — там мы оказались бы почти как дома. Явно, что Рим Траяна и Александрия Птолемеев приняли бы нас в себя легче, нежели ряд местностей, менее отдаленных по времени, но более обособленных по типу своих нравов и целиком отданных какой‑либо одной расе, одной культуре и одной жизненной системе.