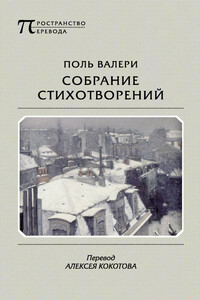И сам он должен был рассматривать себя как образец красивого мыслящего животного, предельно гибкого и свободного, наделенного различного рода движениями, умеющего, по малейшему желанию всадника, без сопротивления и без промедления переходить от одного аллюра к другому. Чутье тонкости и чувство геометрии, — их используешь и их оставляешь наподобие образцовой лошади, меняющей последовательность ритма… В совершенстве координированному существу достаточно предписать себе некоторые перемены, скрытые и весьма простые в волевом отношении, чтобы он мог тотчас же перейти из области чисто формальных превращений и символических действий в область несовершенных знаний и непосредственной реальности. Обладать этой свободой глубоких перемен, вводить в действие такой регистр приспособлений, — это значит лишь пользоваться полнотой человеческих возможностей, той, ка- кою наше воображение наделяет людей античности.
10*
Высшее изящество нас смущает. Это отсутствие смятенности, пророчествования и патетизма; эта четкость целей; это примирение между вниманием к частности и мощью мысли, вечно достигаемое мастером равновесия; это презрение к иллюзионизму и к искусственности; это пренебрежение театральностью у самого изобретательного из людей — представляется нам скандалом. Есть ли что‑либо более трудное для нас, бедных, которые создают себе из «чувствительности» некую профессию, претендуют на то, что обладают всем, при помощи нескольких примитивных эффектов контраста и отклика, и что понимают все, создавая себе иллюзию самоотождествления с зыбкой и подвижной сущностью нашего времени?
Но Леонардо, от искания к исканию, с чрезвычайной простотой становится все более замечательным наездником собственной своей натуры; он бесконечно подымает свои мысли, совершенствует взгляды, развивает действия; он приучает и ту и другую руку к точнейшему рисунку; он распускает и собирает все вновь, он устанавливает соответствие своих желаний с возможностями, продвигает исследующую мысль в искусство и сохраняет свое изящество…
Такой свободный ум доходит в своем движении до неожиданных положений и поражает нас наподобие танцовщицы, которая принимает и сохраняет некоторое время положение полнейшей неустойчивости. Его независимость шокирует наши инстинкты и издевается над нашими желаниями. Трудно себе представить что‑либо более свободное, то есть менее человеческое, чем его суждения о любви и смерти. Он позволяет нам догадываться о них по отдельным отрывкам в его тетрадях.
11*
«Любовь в своем исступлении (так приблизительно говорит он) настолько безобразна, что человеческая pa са погибла бы — la natura si perderebbe, — если бы те, которые занимаются ею, могли узреть себя». Это презрение он подтверждает многими рисунками, ибо полнота презрения к известным вещам наступает тогда, когда можно длительно глядеть на них. И вот он рисует, здесь и там, эти анатомические сочетания, ужасающие разрезы полового акта. Эротическая машина его интересует, ибо животная механика является его излюбленной областью; но борющиеся до пота и задыхания opranti *, чудовища противоположных мускулатур, превращение в животных, — это вызывает в нем словно бы только отвращение и презрение.
* Действующие, работающие, творящие (староитал.).
Его суждение о смерти можно извлечь из весьма небольшого отрывка античной полноты и простоты, который, вероятно, должен был стать частью вступления к трактату, так и оставшемуся неоконченным, о Человеческом Теле.
Этот человек, который вскрыл десять трупов, чтобы проследить за прохождением каких‑то вен, думает: строение нашего тела представляет собой такое чудо, что душа, несмотря на свою божественность, расстается лишь с большими муками с этим телом, в котором она жила; и мне кажется, — говорит Леонардо, — что ее слезы, и скорбь не лишены основания… 10.
Не будем углублять природу того сомнения, полного определенного смысла, которое заключается в этих словах. Достаточно видеть эту огромную тень, которую бросает сюда некая зарождающаяся мысль: смерть, рассматриваемая как бедствие для души, смерть тела — как уничтожение этой божественной вещи! Смерть, поражающая душу до слез, в самом дорогом для него деле, вследствие разрушения той архитектуры, которую она себе создала для жилья!