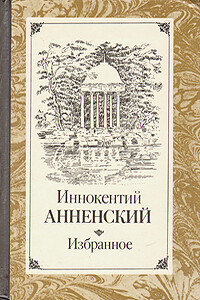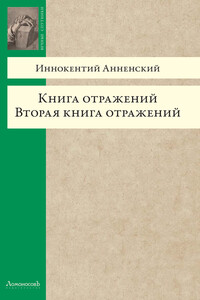Об эстетическом отношении Лермонтова к природе - страница 5
Лермонтов был безусловно религиозен. Религия была потребностью его души. Он любил бога, и эта любовь давала в его поэзии смысл красоте, гармонии и таинственности в природе. Тихий вечер кажется ему часом молитвы, а утро — часом хваления; голоса в природе шепчут о тайнах неба и земли, а пустыня внемлет богу. Его фантазии постоянно рисуются храмы, алтари, престолы, кадильницы, ризы, фимиамы: он видит их в снегах, в горах, в тучах. Но было бы неправильно по этому внешнему сходству видеть в нем Ламартина. Лермонтов не был теистом, потому что он был русским православным человеком. Его молитва — это плач сокрушенного сердца или заветная робкая просьба. Его сердцу, чтобы молиться, не надо ни снежных гор, ни голубых шатров над ними: он ищет не красоты, а символа:
Каков же был общий характер отношения Лермонтова к природе? Мне кажется, что он был психологом природы.
Наблюдение над жизнью любимой природы заставляло его внимательнее и глубже вглядываться в душевный мир человека. Возьмем два примера — его облака и его горные реки.
И мечта, и дума поэта часто останавливались на облаках: постоянно встречаешь в его строках: облако, облачко, тучу, тучки, особенно «тучки» с нежностью.
Каких эпитетов он им ни придавал? — молодая, золотая, светлая, серая, черная, лиловая туча; облака — белые, синие, дымные, седые, румяные, багряные, огненные, косматые, вольные, легкие, разорванные, угрюмые, послушные, неуловимые, зловещие и ревнивые. Поэт отмечает их края-кудри, лоскуты, обрывки, толпы, цепи, караваны, стаи, стада облаков (для звезд, напротив, всегда хоры и хороводы). Они у него бродят, вьются, бегут, летят, мчатся, отважно и спокойно плывут, тихо и грозно ползут; это — то мохнатая шуба, то клочки разодранного занавеса, то перья на шлеме, то замки, то горы, то коршун, то змея, то дикая охота, то поклонники Аллы, спешащие на богомолье.
Интересно проследить, как изменяется психологическое содержание образа. Ребенок видел в облаках то замки, то рыцарей Армиды (эти картины повторяются потом в юношеской повести «Горбач Вадим»[52] и в «Испанцах»[53]). Позже образ освобождается от своей «мифологичности». Это уже не рыцари, а перья на рыцарском шлеме.[54] Потом — просто перья.
В стихотворении «Бой» (эскиз к «Двум великанам», 1832 г.) изображается, как столкнулись на небе два бойца: один в серебряном одеянье, другой — в одежде чернеца и на черном коне; черный побежден, и его конь падает на землю. В «Измаил-бее», написанном немного позже, столкновение черного облака с белым есть уже чисто воздушная, физическая картина, без всяких признаков грубой сказочности.
В ранней поэме, в «Демоне» облака бродят волокнистыми и вольными стадами и возбуждают в поэте зависть.[56]
В 1840 г. пишет он свои «Тучки небесные». Здесь уже не зависть, а раздумье и горечь:
В любимый образ вложена уже не мечта, а глубокая дума.
Перейдем к горным рекам.
Вот горный поток в 1832 г. в «Измаил-бее»:
Таков и романтический Терек: «воет, дик и злобен»[58] или «прыгает разъяренной тигрицей» (в «Тамаре» 1841 г. он уже только «роется во мгле»).
В 1840 г. в «Мцыри», этой последней лермонтовской дани романтизму, образ горной реки уже одухотворен:
В это время дума поэта охотнее обращалась к спокойным рекам, которые
В «Герое нашего времени» уже реки-то серебряные нити, то обнявшиеся сестры.[61]
Рано горные реки стали привлекать не только фантазию, но и думу поэта. В «Сашке» (1835–1836), где величественный образ Волги еще беден, рефлексия уже работает над образом горного потока. Поэту кажется, что от бурь юности ему остался один лишь отзыв — звучный, горький смех: