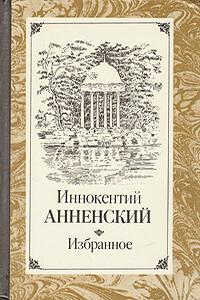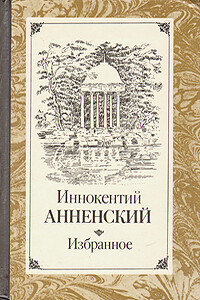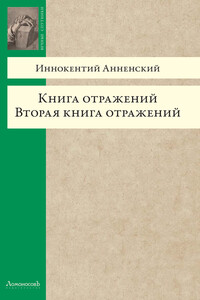Милостивые государи! Речь моя посвящена памяти Лермонтова. На школе лежит долг хранить и поддерживать память о родных поэта. Неблагодарность есть недостаток самосознания. Для русской школы имя Лермонтова не только одно из немногих классических имен, но и неотразимо симпатичное имя. Есть в лермонтовской поэзии особенное, педагогическое обаяние: ей одной свойственна та чистота, почти кристальность изображения, какую мы встречаем в пьесах «Ангел», «Три пальмы», «Молитва», «Ветка Палестины». Боденштедт сказал, что если бы от Лермонтова осталась одна только «Песня про купца Калашникова», этого было бы довольно для его славы;[1] я убежден, что если бы от нашего поэта остались только эти четыре стихотворения, без которых теперь не обходится ни одна хрестоматия, то русская школа все-таки поминала бы его имя с почетом и благодарностью. Говорить о Лермонтове всего естественнее в эти дни, когда память о нем ожила среди нас, благодаря пятидесятилетию со дня его смерти, и сотни тысяч книг с его именем, портретом, стихами хлынули по всей России такой благодатной волной.
Приемы современной истории литературы неблагоприятны для эстетического изучения поэзии. Как ни важна биография поэта, но в ней, к несчастью, минуты, «когда божественный глагол до слуха чуткого коснется»,[2] тонут в тех годах, когда «меж детей ничтожных мира / Быть может, всех ничтожней он».[3] Крупнейший представитель исторического метода Тэн,[4] этот натуралист от литературы, порвал с эстетикой и почти уничтожил самый термин «поэзия»: он вдвинул поэтов в ряды литераторов. Еще дальше от поэзии как искусства отвлекает работающих сравнительный метод: тут все силы направлены на исследование сюжетов и мотивов, на литературные влияния и заимствования литература изучается экстенсивно. Третье новейшее направление, так называемое научно-критическое, ставит себе задачей познать писателя и его произведения на основании влияния его на общество — здесь поэзия уже совсем сошла с подмостков и вместе с литературой низведена на степень народного чтения. Детальное изучение произведений — филологическое, эстетическое, психологическое — силою вещей отходит таким образом на второй план. У нас его почти нет. Точностью текстов поэта дорожат мало и забывают, что у поэта не наше слово — знак, а художественное слово — образ. Стоит только напомнить, что наша поэзия, поэзия мировая, насчитывает всего три критических издания[5] и что ни один из русских поэтов не имеет (сколько-нибудь полного) словаря, как древние классики или Дант, Шекспир, Мольер, Гете — на Западе. Равнодушие к эстетике почти похоронило детальное изучение произведений, в читателях оно ослабило литературный вкус, для поэтов понизило ценз. И вот, когда случай заставит на некоторое время пристально сосредоточить внимание на поэте, невольно пожалеешь о том времени, когда Лессинг был театральным критиком, Шиллер — законодателем эстетики или когда Sainte-Beuve,[6] запираясь от всех, жил и дышал в атмосфере изучаемого им писателя. Я не говорю уже о той роскоши, когда сам поэт, как Кардуччи, комментирует Данта и издает Петрарку или когда Леопарди издает оды с собственными филологическими примечаниями.
Для меня поэзия — прежде всего искусство. В этом ее обаяние, неувядаемость ее славы и ее трагизм.
Поэты — люди особой породы.
Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их.
[7]Провиденциальное назначение поэта — в переживании сложной внутренней жизни, в беспокойном и страстном искании красоты, которая должна, как чувствует это поэт, заключать в себе истину. Эти искания, в их дисгармонии с прозой жизни, заставляют поэта страдать.
Что без страданий жизнь поэта?
[8]Но его слеза — «жемчужина страданья».[9] Из нее родятся элегии.
Стихия поэта — природа и духовная независимость. Как человек, поэт, конечно, подчинен общим этическим законам, но смешно налагать на него обязанности общественной службы: он вовсе не должен быть учителем или публицистом, проповедником или трибуном. В общей культурной экономии его значение определяется тем, что он своими образами фиксирует смутно и бегло переживаемые нами идеи и ощущения: мы даем ему уголь, а он отдает нам алмаз. Как искусство, поэзия имеет три характерных черты: во-первых, она универсальна — на пир поэзии придет и царь, и убогий, и старый и малый, и слепой и глухой — для глухого поэзия будет живописью, для слепого — музыкой; во-вторых, поэзия дает чисто интеллектуальные впечатления; она не дает непосредственного наслаждения, как музыка и скульптура; чтобы наслаждаться ею, надо думать; в-третьих? поэзия есть самое субъективное из искусств. Живописец дает картину, музыкант — сонату, создания, объективно познаваемые и объективно прекрасные. Поэт отдает нам с произведением свою душу: я вижу его