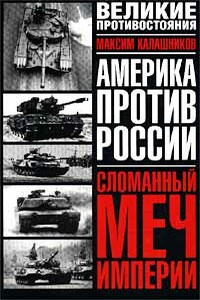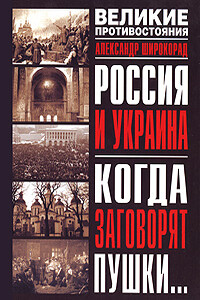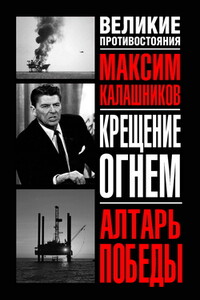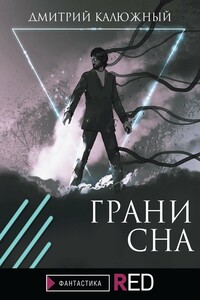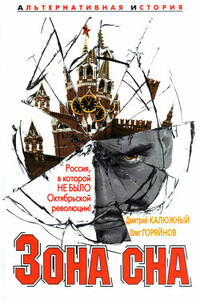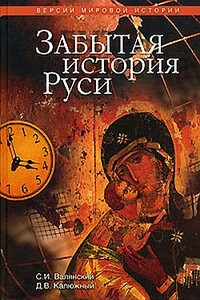Ведь всякая вещь или услуга имеет, кроме цены, еще и полезность. То, что в марксизме называлось потребительной стоимостью. Именно это позволяет вам обменивать какой-то товар по цене существенно больше, чем ваши издержки.
Истинная потребительная стоимость и проявляется при обмене. Например, в советское время люди покупали у спекулянтов джинсы вовсе не потому, что в продаже не было других штанов. Просто джинсы позволяли повысить свой социальный статус в глазах окружающих[7]. Вот за это и переплачивали спекулянтам, и делали это добровольно. Никто насильно не заставлял доплачивать, а даже наоборот, государство наказывало за участие в спекуляции. Мы сами так оценивали товар.
То же и с кирпичом. Здесь очкарик покупал свою целую голову.
Цена – это всего лишь денежное выражение стоимости товара, а вот потребительская цена – то, за сколько покупатель готов его приобрести.
А что, разве вас лично устраивают цены на продукты питания, квартиру, одежду, лекарства, особенно в сравнении с вашей зарплатой? Ничего себе, заплатить за упаковку таблеток тысячу рублей! Но вы же участвуете в сделке, ведь на кону стоит ваше здоровье (как и в случае с кирпичом). Это только в теории цены устанавливаются практически на уровне издержек.
Итак, «чистый рынок» – утопия. Но и чисто плановое хозяйство есть такая же утопия, и вот почему. Для командного управления подобной системой надо отслеживать связи большого (правильнее сказать – огромного) числа экономических агентов. Число этих агентов, помноженное на число вариантов их поведения, много больше, чем число всех жителей. А так как экономика подчиняется нелинейным закономерностям, то при определённой ошибке, с которой мы всегда знаем исходные данные, при управлении столь сложной системой очень быстро наступает хаос.
Из этого следует, что попытки противопоставить одну абстракцию – «рынок», другой абстракции – «плану», не более чем схоластика, не имеющая к реальности никакого отношения.
А что же есть на самом деле? И управление в определённых пределах, чтобы выбрать оптимальное устойчивое состояние экономики, и свободное функционирование системы после достижения нужного стационарного состояния. Но при этом государство должно следить, чтобы система из него не вышла. Чтобы большие внешние изменения не перевели систему в неоптимальное состояние.
Выбор того оптимального состояния, в рамках которого должна функционировать экономика, определяет только само государство, исходя из наличных ресурсов, структуры общества, социально-культурных традиций, природных условий и т. д.
Также надо иметь в виду, что любые социальные действия имеют и положительные, и отрицательные стороны, которые нужно сравнивать при оценке таких действий. Недобросовестные «эксперты» и реклама этим усиленно пользуются, навязывая людям негодные решения. Если они пытаются протолкнуть некие социальные новации, то изо всех сил раздувают их положительные стороны, и не сообщают об отрицательных. Если же идею надо провалить, то наоборот, все силы сосредотачивают на отрицательных сторонах, не сообщая о положительных. И никогда не дают объективной картины.
Приведем пример. В первые годы перестройки много говорили о «цеховиках». В обществе насаждалось мнение о них, как о «талантливых организаторах производства», которых незаслуженно преследовало государство. Якобы они и были первыми «рыночниками» в стране. А что было на самом деле?
Государство устанавливало цены на товары, производимые лёгкой промышленностью, существенно выше издержек. Это приходилось делать хотя бы потому, что обувать и одевать армию надо было из каких-то средств. Когда средний гражданин, отдавший в армию своего сына, покупал самому себе пару ботинок, он одновременно «покупал» сапоги этому своему сыну. А та зарплата, которую получали работники обувной промышленности, было меньше, чем они могли бы получать, исходя из магазинных цен.
Так что в подпольном производстве этих товаров рентабельность получалась 300 и более процентов отнюдь не от хозяйственной разворотливости «цеховиков», а из-за того, что они не отдавали государству избыточный доход, возникающий при продаже по завышенным государственным ценам. А общество, как целое, проигрывало.