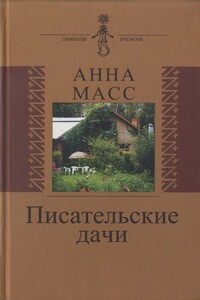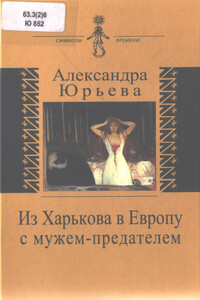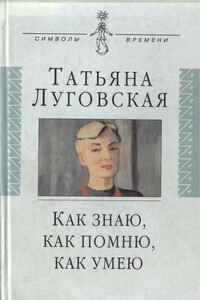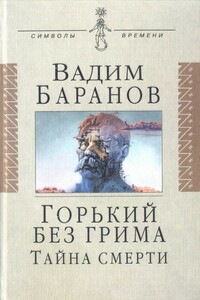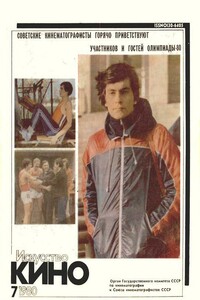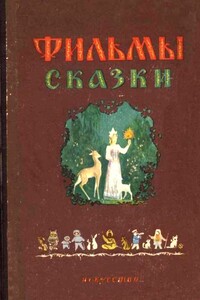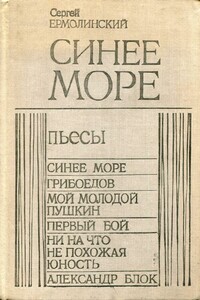И он действительно оказался за границей. Я встретил его в Москве, но когда? — уже после войны. К моему удивлению, он был вполне благополучен, работал в одной из газет, как правоверный человек писал статьи и книги о литературе. Меня он, разумеется, не узнал, а я счел лишним напомнить ему о нашей давней встрече. О его журнале 20-х годов давно уже все забыли, так что говорить по этому поводу — что, как и почему — вряд ли стоило, а может быть, было бы и бестактно?..
Надо было заглянуть в глубины, где ворочалась неведомая Россия. Вот это хотелось увидеть воочию, узнать — не из книг. Путь к этому, как мне казалось, могла дать мне газета.
Я пошел в «Комсомольскую правду». Редактировал ее тогда Тарас Костров[43]. Если не ошибаюсь, он был ее первым редактором, но если не первым — то, во всяком случае, с его именем связано создание этой боевой, дерзкой газеты. Версталась она для того времени необычно — с крупными заголовками, лозунгами. На ее страницах то и дело открывали сенсационные дискуссии о комсомольском быте, о студенчестве, о литературе, об искусстве, с перехлестом за что газете влетало.
Редакция помещалась в Малом Черкасском переулке, у Старой площади. У Тараса было чуткое ухо на людей, а сотрудников он любил шумных. У Тараса с утра до ночи гудел народ. Ну а если появлялся Маяковский, то и вовсе превращалось все в бурный и веселый клуб.
Триумфально-популярный среди молодежи, но вместе с тем не раз обруганный, и травимый, и осмеянный, он любил заходить сюда, чувствовал себя здесь общим кумиром и признанным мэтром и, как всегда на людях, «играл Маяковского» — бравируя безапелляционной грубоватостью, принимался за составление хлестких заголовков-лозунгов для очередного номера. Высмеивая нас за беззубость и неизобретательность, он почти лежал на столе, склонившись над развернутым сырым оттиском, а в углу рта была зажата папироса. Мы стояли вокруг, наперебой соперничая в остроумии, чтобы отличиться перед ним. Тарас, выйдя из кабинета, любовался им и нами и от удовольствия почесывал кончик носа.
Помню я и появление в редакции Эдуарда Багрицкого[44], недавно приехавшего в Москву. Глуховатым голосом он читал отрывки из «Думы об Опанасе». Кто он и откуда, никто еще толком не знал, но он предъявил паспорт — свои стихи — и тотчас был признан своим. Мне кажется, он уже и тогда выглядел таким же, каким знали мы его позже — с зачесанной на лоб челкой, полнеющий, грузный. Время стерло для меня портрет молодого Багрицкого, только таким его помню.
Л. Иохвед, начинающий беллетрист, выпустивший в издательстве «Прибой» повесть «Пристань», заведовал отделом «Театр, кино, музыка». Мы сразу сцепились с ним по поводу Художественного театра (он признавал только Мейерхольда, а я уже не боялся говорить, что думаю) и несколько успокоились, сойдясь на Дзиге Вертове — оба считали, что надобно поднять дикий шум в его защиту. Иохвед тут же заказал мне статейку о кинохронике. Я пришел, как говорится, с улицы, но тогда вопрос о сотрудничестве решался просто: вали, докладывай о себе делом, т. е. напиши, а мы поглядим, что ты за птица, парень, и годишься ли нам. Я написал и, оказалось, сгодился.
Неожиданно устроился и мой бесприютный быт. У дяди Коли, который жил на Пречистенке[45], я бывал редко, самолюбиво сторонясь его старомосковского, как мне воображалось, чванливого барства. В дальнейшем расскажу, как я ошибался в этом родном мне человеке. Он был ученый библиограф, известный книжный собиратель. Его редкостную библиотеку хорошо знали московские книголюбы и букинисты (сейчас его собрание в «Ленинке»). Он жил в книгах, ради книг и прожил всю жизнь, никуда не выезжая.
В середине 20-х годов в Москву из Сибири вернулся его младший брат, Вениамин, человек совсем иной судьбы. В 1905 году за участие в восстании Ростовского гренадерского полка (полк квартировался в Москве, в Спасских казармах) военный суд приговорил его к смертной казни, которую заменили бессрочной каторгой. Он отбывал ее в знаменитом Александровском централе под Иркутском и был освобожден Февральской революцией. В годы голода и холода пречистенский дядя, зябко потирая руки, пофыркивал: