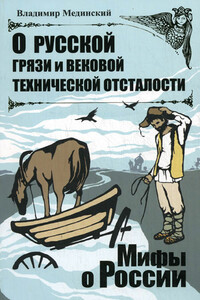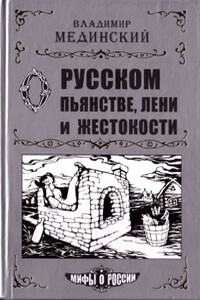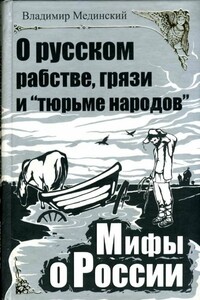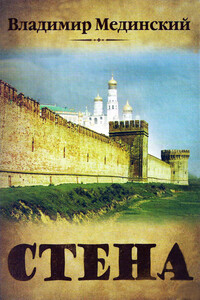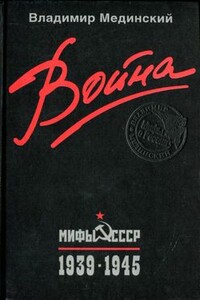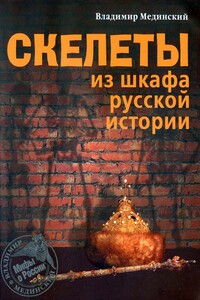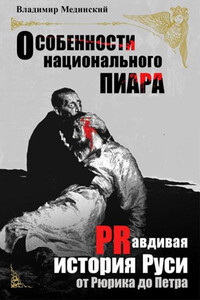Боярский сын, ушедший в 30 лет в дальний северный монастырь в монахи. Рядовой монах, благодаря праведности, администраторским талантам и харизме ставший настоятелем крупнейшего монастыря. Настоятель, превративший монастырь, как бы сказали сегодня, в процветающее предприятие, центр культурной и хозяйственной жизни всего Русского Севера.
Став по приглашению Ивана Грозного митрополитом[37] Московским, Колычев не просто спорил с царем, пытался остановить опричный террор, заступался за невинно осужденных. Он постоянно ПУБЛИЧНО осуждал государя за опричнину, за нехристианские его деяния.
В итоге был лишен сана по приказу Грозного и схвачен опричниками прямо в Кремле, в Успенском соборе во время богослужения. Год провел в заточении, но не отрекся от своих взглядов и демонстративно отказался благословить Новгородский поход Грозного.
Чудовищный финал — по легенде, задушен Малютой Скуратовым прямо в своей монашеской келье.
Смею сказать: такие люди, как святой Филипп (Федор) Колычев, — сама суть, соль земли нашей. Недостижимый образец таланта, величия духа, стойкости и истинной святости.
Но почему нет памятника ему в центре Москвы? Почему отдельным уроком не изучают его жизнь, его подвиг в школе, на уроках истории?
Его судьба удивительным образом повторяет судьбу другого святого Римско-католической церкви, жившего несколько ранее, — архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета. Та же незаурядная личность. Та же вера, что церковь как власть нравственная — неподсудна светской власти монарха и не должна от нее зависеть. Те же сложные отношения со своим оппонентом — королем Англии. Отметим, правда, что в отличие от нашего героя, Томас Бекет больше спорил с королем не о неправедном королевском суде, не о невинно осужденных, а о вопросах власти и распоряжения церковной собственностью и ее доходами… Европа есть Европа. И даже страшная смерть его от рук королевских рыцарей прямо на ступенях собора созвучна истории ареста и гибели Филиппа.
Но почему-то, сдается мне, в наших школьных учебниках об английском архиепископе Томасе Бекете написано поболе, чем о русском священнике Филиппе Колычеве.
Взятие Казани, Астрахани при Иване Грозном, в XVI веке, дало возможность русским заселять Заволжье. С точки зрения русских, Заволжье до XVI века было пустым. Предуралье уж тем более. Пермские владения купцов Строгановых, ставшие в XVI веке базой для продвижения русских в Сибирь, воспринимались почти как владения Ост-Индской компании в Индии.
В XVI веке московские служилые люди дошли до Енисея. Вассалом Москвы признало себя Тюменское, а позже и Сибирское ханства.
В истории завоевания Сибири самым известным стал эпизод совершенно незначительный, не сыгравший, в общем, никакой серьезной роли: поход нанятого Строгановыми казачьего отряда под начальством Ермака Тимофеевича. Историки даже не знают точную дату этого похода, называют то 1579 год, то 1581 год.
Так и осталось неясным, нанес ли отряд Ермака поражение татарам или хан Кучум попросту отступил перед казаками, потому что не имело смысла воевать с ними, бредущими через колоссальную, почти безлюдную равнину. Казаки заняли и слегка пограбили несколько городков, в том числе и столицу Кучума — Кашлык.
Татары и другие народы Сибирского ханства — примитивного феодального государства — признали власть московитов, и дело тут не в походе Ермака. Просто русские строили города: в 1586 году — Тюмень, в 1587 году — Тобольск, в 1593 году — Березов[38], в 1595 году — Обдорск.[39]
В Сибири, так же как на юге и на севере, основанные города были в первую очередь крепостями. А брать крепости сибирские татары не умели.
Из городов в любой момент могли выйти закованные в панцири казаки с ружьями. Забавная деталь: казаки кормили лошадей ячменем и потому могли ездить на них даже в морозы. На сибирских татар это производило огромное впечатление, ведь их лошади жили весь год на подножном корме и ко второй половине зимы превращались в живые скелеты.
Российская империя обретала мощь, и московиты шли дальше, в глубь Сибири, основывая острог за острогом: в 1604 году — Томск, в 1618 году — Енисейск, в 1628 году — Красный Яр.