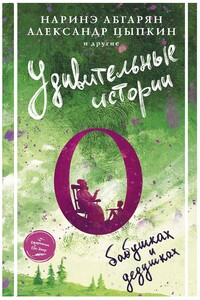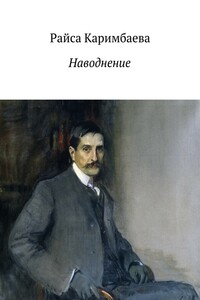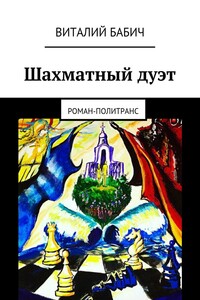Но чудесное лето кончилось гораздо раньше.
В первых числах августа вдруг зарядил дождь, не по-летнему холодный. Речка стала мутной, солнечные кувшинки попрятались, неубранные стога на полях уныло раскисали под непрекращающимся ливнем. Природа как будто заранее оплакивала нашу разлуку.
А Маше пришла телеграмма из дома – заболел отец, нужно срочно возвращаться. Я не пошел провожать ее на станцию, не хотелось неловкого прощания на глазах у родственников. Тетя будет совать ей в руки завернутую в фольгу курицу и давать последние наставления, а я – топтаться в сторонке с глупой улыбкой.
К тому же ее тетю я терпеть не мог. Внешне они были на удивление похожи – янтарные, слегка раскосые глаза, резкие скулы и рыжие кудряшки, только у тетки все черты приняли какие-то карикатурные формы, словно не очень хороший художник нарисовал шарж на Машу. А голос у нее был визгливый и скрипучий, как несмазанные дверные петли. Меня она называла не иначе как «этот юноша». Признаюсь, их сходство меня иногда пугало.
Накануне отъезда мы с Машей даже слегка поцапались. Она обиделась на мое нежелание ее провожать, а я съязвил, что она все больше становится похожа на свою сварливую тетку, и мне прямо-таки страшно, что в будущем она превратится в ее копию. Разумеется, я не придавал этим словам ни малейшего значения, мне было ужасно тоскливо, что нам придется расстаться, и из-за этого я злился на весь мир, не представляя, как проведу оставшийся месяц. Я даже подумывал рвануть за ней, хотя Маше, конечно же, об этом не сказал.
Вот так и вышло, что на прощание мы даже не поцеловались, она сердито фыркнула, развернулась и пошлепала по лужам, а я стоял как дурак и не находил нужных слов, чтобы ее остановить.
Всю ночь я не сомкнул глаз, строил планы и думал только о Маше. В конце концов я признал, что она права, – не так уж важно сколько нам лет, я хочу провести с ней всю жизнь, завести детей и вместе состариться.
А утром я услышал по радио про железнодорожную аварию. Диктор будничным, хорошо поставленным голосом объявил, что поезд сошел с рельсов, имеются многочисленные жертвы, в особенности среди пассажиров последнего вагона. Ее вагона. А потом перешел к прогнозу погоды. Что-то там про атлантический циклон и дождевой фронт, но я уже не улавливал смысла.
Я не хотел, не мог поверить, что ее больше нет. Еще вчера я не представлял, как смогу обойтись без нее какой-то месяц, а теперь нужно было привыкать к тому, что я всю жизнь проведу без нее. Я потянулся к телефонной трубке, чтобы позвонить ее тете и выяснить, что с Машей, но рука зависла в воздухе. Ведь если я позвоню, то не останется никаких сомнений, а пока я не знаю наверняка, она будет для меня жива. Не превратится в гладкий могильный камень с двумя датами, а останется все той же Машей, пахнущей свежескошенной травой и ромашками, которой я еще успею сказать, как ее люблю.
Следующий год я жил как в тумане и превратился в ходячий автомат. Вставал по утрам со звоном будильника, заливал в себя какую-то жидкость – не то чай, не то кофе, вкусы я перестал различать, – шел в институт и записывал в тетрадь бессмысленные закорючки, что-то бубнил на экзаменах и невпопад отвечал на вопросы сокурсников. Друзья сначала с пониманием хлопали по плечу, потом начали сторониться. Когда чужая боль затягивается, она начинает тяготить. А для меня жизнь просто утратила краски, превратилась в черно-белое кино, где я был не действующим лицом, а лишь зрителем.
С годами я стал к этому привыкать и пришел к выводу, что, возможно, многие именно так и проводят всю жизнь. Я женился, завел детей, в общем – все как положено. Я даже мог бы назвать себя счастливым, если бы не было в моей жизни того июля на ромашковом поле, если бы я не знал, как это бывает. Я никогда не беру отпуск летом и не езжу с друзьями на пикники, потому что от запаха свежего сена и стрекотания кузнечиков на меня накатывает тоска. Где-то в глубине души я до сих пор верю, что Маша жива и по-прежнему заливисто смеется, откидывая голову назад, и щурит на солнце глаза, а кто-то шепчет ей: «Я тебя люблю».