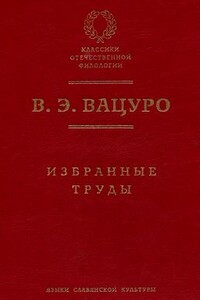Другой ряд ассоциаций, как можно думать, был подсказан Жуковским. В 1838 году в «Современнике», в одном томе с лермонтовской «Казначейшей», печаталось его «Письмо из Швеции» — плод реальных впечатлений, преобразованных в полупародийную литературную новеллу. Жуковский рассказывал, как в замке Грипсгольм ему отвели для ночлега комнату, посещаемую привидениями, и как «образчик» их он усмотрел в некоей замковой «гостье», избравшей его предметом своего особого внимания, — это была «бледная фигура с оловянными глазами, которые тускло светились сквозь очки, надвинутые на длинный нос»; она ушла так «тихо и медленно, что, казалось, не шла, а веяла». Он заканчивал свой рассказ описанием глубокой ночной тишины в его комнате, от которой шел узкий каменный коридор, веявший «сыростию могилы»; на потайной двери висел портрет, «на который нельзя взглянуть не содрогнувшись: лицо как будто какого-то старика — но какие черты его? и видишь их, и нет; зато поражают тебя глаза, в которых явственны одни только белки, и эти белки как будто кружатся и все за тобой следуют». В этом письме есть еще одна точка сближения со «Штоссом»: оно обрывается на кульминации напряжения. «Что же? Я подхожу к своей постели… Но мне надобно оставить перо до следующего письма, в котором доскажу, что случилось со мною в замке Грипсгольме»[319].
Любопытно, что и та и другая сцены — бытовые, анекдотические и связанные с реальными лицами. То, что «Штосс» соприкасается с ними, вряд ли случайно. Как мы пытались показать выше, повесть Лермонтова намеренно обнаруживает свою связь с бытовой, внелитературной сферой, с устным кружковым анекдотом, — ив этом заключается часть ее литературного задания. Элемент пародийного снижения, заключенный в рассказе Жуковского, также оказывался близок лермонтовскому замыслу, и, можно думать, Лермонтов им воспользовался.
Вместе с тем, как и очерк Жуковского, «Штосс» далеко перерастал рамки устной новеллы и впитывал в себя литературные мотивы, подвергшиеся трансформации. Часть их, как мы имели случай заметить, ведет к ранней прозе Лермонтова. Физический облик привидения — «серые мутные глаза, обведенные красной каймою», глядящие «прямо без цели» (VI, 362,363), — отчасти напоминает портрет старухи нищенки в «Вадиме» (глаза ее — «два серые кружка, прыгающие в узких щелях, обведенных красными каймами»; VI, 55). Фигура его во время волнения «изменялась ежеминутно, он делался то выше, то толще, то почти совсем съеживался» (VI, 363), — так происходило с гротескным «принцем пьявок» в гофмановском «Повелителе блох», и таким же образом, даже текстуально близко, описан призрак в «Саламандре» Одоевского: тень, похожая на человеческую фигуру, образ которой «беспрестанно изменялся», меняя свою форму; «тут было подобие головы, рук, которые то вытягивались, то сжимались, как фигуры на оптических картинах, известных под названием „аморфозных“»[320]. Но призрак у Лермонтова не бесплотен; его гротескно-натуралистическое изображение противостоит изображению Одоевского и скорее ближе к тому, какое давал Жуковский: «бледное и длинное» неподвижное лицо, «серые мутные» глаза вызывают в памяти облик унылой особы из замка Грипсгольм, с ее длинным носом и «оловянными» глазами. Как и в других случаях, Лермонтов свободно объединяет разные источники и параллели, растворяющиеся в общей амальгаме; господствующая тональность изображения — ироническая и гротескно-натуралистическая, перерастающая затем в «жуткую». Лугин «столбенеет» под «магнетическим влиянием» глаз старика (VI, 364), однако особенность ситуации в том, что выходец с того света вступает с ним в естественные, бытовые взаимоотношения и самым своим обликом и поведением наполовину принадлежит бытовой сфере.
Именно в этом месте рассказа возникает ключевой каламбурный диалог, в котором, как в миниатюре, сконцентрировались общие стилевые тенденции повести. Тщетно борясь с нарастающим волнением, Лугин требует от старика разрешения опутавшей его тайны. Имя Штосс уже было подсказано ему таинственным голосом, и болезненно напряженное сознание продолжает деформировать действительность, устанавливая в ней некие внелогические связи, как это мы видели в сцене с дворником. На этот раз Лугин случайно попадает на имя Штосса; каламбур включается в систему роковых совпадений и из забавного становится страшным. Над этой сценой Лермонтов работает специально, ища наиболее естественного психологического и речевого контекста. Он пробует варианты: «Как ваша фамилия?», «Как вас зовут?». Собеседник должен переспросить, не поняв или не расслышав вопроса: «Что-с?» — что в свою очередь воспринимается как ответ. Уже после чтения повести Лермонтов вернулся к этой сцене. По-видимому, сложившийся вариант он ощущал как искусственный: в нем не было передано смятение Лугина, который мог принять вопрос за ответ только в состоянии крайнего нервного напряжения. В записную книжку, подаренную ему Одоевским, Лермонтов вписывает вариант, содержавший оптимальное решение: «— Да кто же ты, ради бога? — Что-с? — отвечал старичок, примаргивая одним глазом. — Штос! — повторил в ужасе Лугин» (VI, 623).