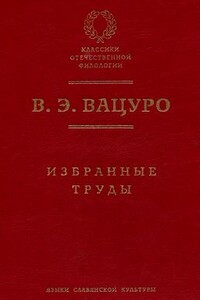Чужое «я» в лермонтовском творчестве
Проблема, обозначенная в заглавии настоящей статьи, конечно, может быть в ней лишь конспективно намечена, ибо она очень обширна и касается самых фундаментальных оснований лермонтовского творчества. Если угодно, это попытка объяснить некоторый мировоззренческий парадокс, который она представляет взору наблюдателя. В самом деле, поэт-байронист, не утративший полностью связи с байронической традицией вплоть до конца своей недолгой жизни, в зрелые годы предстает нам как рефлективный поэт — путь для русской литературы не вполне обычный и даже не вполне естественный.
Это явление уже было замечено в лермонтоведческой литературе, в частности, Л. Я. Гинзбург, которая, как мы увидим далее, попыталась — и не без успеха — объяснить его; однако качество лермонтовской рефлексии представляется нам несколько иным, чем у других русских байронистов, и, соответственно, иначе рисуется его генезис. Раннее творчество Лермонтова, более всего лирическое, развивается под знаком байронической поэмы. Лирический субъект его ориентирован на байронического героя, то есть живет в той сфере запретов и экспектаций, которая предопределена характером этого последнего.
Мы привыкли связывать понятие нормативности с классицистской и просветительской литературой, проникнутой дидактическим началом, — но русская романтическая традиция, по крайней мере в 1820-е годы, ничуть не менее нормативна. Это очень ясно видно на примере прозы этого времени, теснейшим образом связанной с просветительской традицией, — но и лирическая поэзия несет на себе печать того же нормативизма. Для нее существует определенного рода аксиологическая шкала, за пределы которой не может выйти лирический субъект. В «элегической школе» (доромантической по своему происхождению, но сильно повлиявшей на формирование русской романтической лирики) эта шкала предопределяла все литературное поведение элегического героя.
Так, немыслимо было бы представить себе пушкинского Ленского, изменившего Ольге, — и не потому, что это невозможно в логике жизненных отношений, а потому, что самый характер Ленского соотнесен с моделью элегического героя шиллеровского типа, для которого действителен этот эстетический запрет (в отличие, например, от элегического героя Парни). Когда Пушкин намечал потенциальную судьбу Ленского, живущего в деревне, женатого и рогатого, в стеганом халате, — это была очень острая пародия с эстетическим содержанием: представим себе хотя бы героя «Падения листьев» Ш. Мильвуа в виде стареющего патриархального помещика — он сразу же перестает быть элегическим субъектом. Аксиологическая шкала, существующая для героя «байронической поэзии» в ее русском варианте, отлична по содержанию, но не менее жестка: так, нельзя представить себе лермонтовского Демона, осуществившего свои мечтания и соединившегося с Тамарой «в надзвездных краях». Обязательными элементами байронической аксиологии является, например, состояние конфликта личности и общества, — где общество предстает как враждебная сила, а личность правомочна его судить; страдание как мерило ценности личности (очень важная тема для Лермонтова, сохранившаяся у него вплоть до «Героя нашего времени»), любовь, которая аксиологически выше жизни и т. д. Отсюда возникает некая типовая, идеальная модель биографии и поведения субъекта, которая просвечивает почти во всей лирике Лермонтова 1830–1831 годов. Легко заметить, например, что любовное чувство в ней драматизировано и литературно воплощено в целом ряде условных мотивов (трагической гибели, ожидания казни, изгнанничества и т. п.); новейшие исследования показывают, что биография лирического «я» соотнесена у раннего Лермонтова с биографией Байрона, как она предстает в хорошо известных ему «Letters and Journals of Lord Byron», изданных Т. Муром[571]. Кстати, именно поэтому столь размытыми и легко проницаемыми оказываются границы условных лирических циклов 1830–1831 годов: далеко не всегда удается установить, кто в этих стихах является реальным адресатом (Е. А. Сушкова, Н. Ф. Иванова или кто-то другой): эмоциональный рисунок в них близок, черты лирической героини трудноразличимы; действует единый лирический субъект.