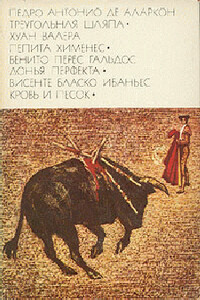Тем, кто хочет видеть Веласкеса, надо ехать в Мадрид, отчасти потому, что в Мадриде его больше, чем где бы то ни было, отчасти же потому, что на фоне пышности он как-то особенно рельефен в своей трезвой рамке, среди державного великолепия и шума толпы, в этом городе, одновременно пылком и холодном.
Если бы мне надо было определить Мадрид двумя словами, я бы сказал, что это город дворцовой парадности и грибных дождичков революций; посмотрите, как люди здесь держат голову - это наполовину grandeza, наполовину упрямство. Считая, что я хоть немного разбираюсь в городах и людях, могу сказать, что если Севилья полна блаженного безделия, а Барселона полускрытого кипенья, то в воздухе Мадрида ощущаешь какую-то легкую и чуть нервирующую напряженность.
Так вот, Диего Веласкес де Сильва - рыцарь Калатравский, гофмаршал и придворный живописец того самого бледного, холодного и странного Филиппа IV, принадлежит Мадриду испанских королей по двойному праЧ ву. Во-первых, он высокородный-он так независим, что даже не лжет. Но это уж не пышная золотая независимость Тициана; в ней резкий холод, неумолимая, тонкая наблюдательность, страшная меткость глаза и мысли водит его рукой.
Думаю, что король сделал его маршалом не потому, что хотел его наградить, а потому, что его боялся, потому что не мог чувствовать себя спокойно под пристальным проницательным взглядом Веласкеса; корольке мог снести равенства с живописцем и потому возвел его в гранды. И тогда это был уже испанский паладин, писавший бледного короля с усталыми веками и ледяным взглядом, бледных инфант с накрашенными щечками - жалких, затянутых в корсет кукол.
Или придворных карликов с разбухшими головами, дворцовых шутов и уродцев, надутых нелепой важностью, идиотичных и искалеченных выкидышей народа, невольную карикатуру на величие двора. Король и его карлик, двор и его скоморохи - Веласкес не мог бы дать эти сопоставления так остро и последовательно, если бы в них не было особого смысла. Королевский гофмаршал едва ли стал бы рисовать дворцовую челядь, если бы сам этого не захотел. Уж по крайней мере одну-то жестокую и холодную истину он раскрывает этим: таков король и его мир. Веласкес был слишком независимый художник, чтобы заниматься только служением королю; и слишком важный сановник, чтобы довольствоваться простым отображением виденного. Он слишком хорошо видел - такими глазами мог смотреть только весь его ясный высокий ум.
ЭЛЬ ГРЕКО, 6 L A D Е V О С I О N
[или набожность (исп.).]
Доменико Теотокопули, прозванного Эль Греко, ищите в Толедо, не потому что для Толедо он типичен больше, чем что-нибудь другое, а потому что в Толедо его полно и потому что в Толедо вас ничто уже не удивляет, не удивляет даже Эль Греко - грек по крови, венецианец по краскам, готик по манере письма, который прихотью истории попал в разнузданный барокко. Представьте себе готические вертикали, когда на них дуют вихри барокко; это ужасно, готическая линия разламывается, бушующий барок бьет в низвергающиеся отвесы готики и пронизывает их насквозь; иногда кажется, что картины трещат под натиском этих двух сил. Удар так яростен, что деформирует лица, коробит тела и драпирует одеяния тяжелыми, взволнованными складками; облака заворачиваются, как простыни под ураганным ветром, сквозь них пробивается свет, внезапный и полный трагизма, заставляя краски вспыхивать с неестественной и жуткой силой, словно наступил судный день, когда на небе и на земле появляются чудесные знамения.
И так же, как это двоякое освещение, в картинах Греко ощущается какая-то раздвоенность, какая-то предельная взаимная истерзанность двух начал: прямое и чисто видение бога, возвысившее искусство до готики, и возбужденный мистицизм, которым приводил себя в экзальтацию слишком уж земной католицизм барокко. Старый Христос был не Сын человеческий - а сам Бог во славе.
Византиец Теотокопули носил в себе старого Христа, но в барочной Европе нашел Христа очеловеченного, Христа, принявшего телесный образ. Старый бог в светозарном сиянье восседал величаво, неприступно и немного оцепенело; бог барочный и католический вместе с хором своих ангелов прямо-таки валился с небес на землю, чтобы схватить верующего и втащить его в свои пышные и благодатные пределы. Византиец Греко пришел из базилик святого молчания в храмы ревущих органов и неистовых крестных ходов; для него это, я бы сказал, было слишком: чтобы не потерять в этом гаме свою молитву, он сам стал кричать голосом диким и неестественным. Им овладевает какое-то безумие веры; он не находит успокоения в этом мирском, суетном гуле; он должен перекричать его еще более исступленным воплем. Странное дело: этот восточный грек преодолевает барокко Запада тем, что придает ему пафос, доходящий до экстаза, и лишает барок его пышной и дюжей телесности. Чем старше он становится, тем больше противоестественного появляется в его фигурах, - тела вытягиваются, лица искажает мученическая худоба, глаза закатываются, недвижно устремляясь горе. Туда, ввысь! К небу! Краски утрачивают реальность; тьма его воет, краски горят, словно озаренные вспышкою молнии. Неестественно тонкие бесплотные руки воздеваются к небу в ужасе и изумлении - грозные небеса разверзаются, и старый Бог приемлет неистовый вопль ужаса и веры.