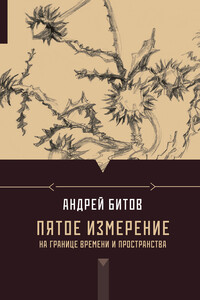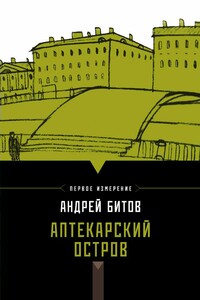Я подошел к Слониму.
– Ты не брал мои кнопки?
– Кнопки? Какие кнопки?
– Как какие! Мои… Простые, обыкновенные.
– О чем это ты? Да постой, что это с тобой?..
– А что?
– Ну ничего, ты не унывай… Но что это ты сегодня? Не такой какой-то…
– А какой же?
– А не такой.
Вот теперь не отгибается. Я веду и веду свою линию. До самого обеда.
Спускаюсь со всеми в столовую.
– Ну вот и ты с нами, – говорит мне Зарембо.
– А что тут такого?..
– Да нет, это я так…
Спускаюсь, смотрю на стену. Нет «Культи». А тут Артамонов. Задушевно так за руку берет и не выпускает, в своей держит, и пристально так на меня смотрит.
– Ну как ты, Петя?
– А что?!
– Ну ничего, ничего, – говорит Артамонов. – Это ничего.
В столовой опять солнце. Всюду слепит. Набрал всего на поднос – не знаю, куда сесть. Стою с подносом. Вижу, Слоним один сидит. Сажусь к Слониму.
– Что же ты, Петя, киселя-то не взял? – говорит Слоним.
– Как киселя?
– Ты киселя-то возьми.
Теперь и кусок-то в горло не полезет. Что это? Солнце слепит, Слоним сидит напротив, кисель пьет. Да полно, Слоним ли это?
И вот опять я веду и веду эту линию. Кнопки блестят, круглые. Капли еще капают. Синицы же нет. Рейсшину почистить надо – мажется. Синицы нет. Иван Филипыч подходит.
– Так, так, – говорит.
Я черчу, не оборачиваюсь, веду свою линию.
– Культю подхавали пафли, – слышу я из-за спины.
– Что вы сказали?! – говорю я.
– Я? Ничего. Что это вы, право?..
И отходит.
Я же черчу. Только что-то вдруг все на меня пристально смотреть стали. И не чертят уже, смотрят все и молчат.
«Да полно вам», – хочу сказать я.
Молчат. Солнце. Кнопки блестят. И чертежные доски отдельно так стоят, черные на солнце, на тонких ножках; ножки все мелькают – и словно бы все эти доски по комнате плавают и ножками перебирают.
«Ну что вы?! – хочу сказать я. – Не надо! – хочу крикнуть я. – Да вы что?!»
Молчат. Все словно бы расползается перед моими глазами, как мокрая промокашка. Серое такое, амебное…
«Спокойно, – говорю я себе. – Только спокойно. Культпоход завтра. Возьми себя в руки».
Эта бочка, совершенно непонятно почему, стояла на насыпи, причем так близко от проходящих поездов, что до нее можно было дотянуться рукой. Она была железная и пустая, а сразу за ней был длинный склон насыпи, и там, в глубине, под насыпью, до самого леска – огромная лужа. Бочка была рыжей от ржавчины, и на ней было написано 703-КЛ, но и эта надпись была уже рыжей. Невдалеке от бочки стоял маленький белый столбик с цифрой 7, отмечавшей очередные сто метров. А в другую сторону, и тоже невдалеке, стояла черная металлическая мачта, которая поднимает плоскую металлическую лапу с кругом-кулаком на конце. От этой мачты долго еще, до самой путейской сторожки, низко над землей тянутся интересные такие тросики. Побеленные же камушки, уложенные чуть не через каждый метр, тянутся вдоль всей линии аккуратной цепочкой. У этой мачты, внизу, даже растет трава, и несколько запыленных ромашек с трудом поддерживают свои головки. А под насыпью – там вообще море этих ромашек, до самого леска. Лесок из молоденьких сосенок – пушистый и веселый. Чуть подальше за ним течет ручеек, и один его изгиб виден с железной дороги: так он поблескивает. За ручейком длинное непонятное строение, и всегда одна и та же грустная лошадь пасется около него, и кажется: никогда не сойдет со своей точки. А там дальше луг и опять что-то вроде ромашек, до самого горизонта. А если нет дождя, то над всем этим еще голубое небо с редкими взбитыми облачками.
Так вот, бочка, старая и ржавая, стояла на высокой насыпи, у самой колеи, и внизу была лужа. По насыпи полз зелененький дачный поезд. На подножке одного из вагонов сидел Петр Иваныч и ехал на дачу. Он вез туда большую подушку. Он сидел на подножке, обнимал подушку, и подбородок его покоился вверху. Ему было очень удобно сидеть вот так с подушкой, и он дышал воздухом, который совсем другой, чем в городе. А дождя в это время не было, и поэтому небо было голубое, с редкими взбитыми облачками.
И Петр Иваныч увидел множество ромашек и пушистый сосновый лесок, за леском блеснул ручеек, и Петр Иваныч увидел длинное непонятное строение и эту грустную лошадь, а дальше луг и опять ромашки… Он глубоко вздохнул, и что-то переполнило его.