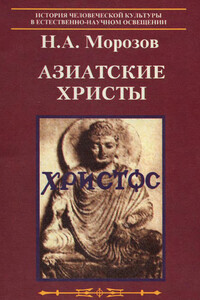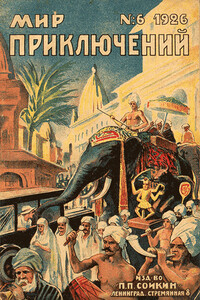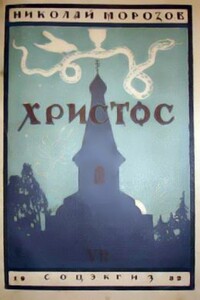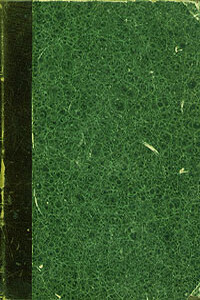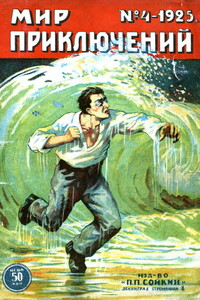И затем приводится еще свидетельство о них и из сочинений того же Мефодия.
«В выборе источников, — продолжает Сухомлинов, — ясно обнаруживаются позднейший век и образованность автора начальной летописи и искусство его, как писателя. В этом отношении замечательно подчинение всего вносного главной мысли повествования. В способе пользования источниками как отечественными, так и иностранными, заметны единство, одинаковость приемов: летописец обыкновенно не записывает свидетельства своего источника дословно во всем объеме, а приводит из него извлечения, связывая его с главным предметом повествования...»
И вот, — добавим мы, — этими явными фантазиями приведен сухой хронологический скелет из походов последовательных князей даже с характеристикою этих никогда не виденных автором лиц. Так, о князе Ростиславе († 1065) говорит: «Бе же Ростислав муж добль, ратен, и красен лицем и милотив убогым», а о Глебе († 1078): «бе бо Глеб милостив убогим, и страннолюбив, тщанье имея к церквам, теплъ на веру и кроток, взором красен».
Насколько правдоподобнее такие характеристики (которые автор дает почти всем князьям при упоминании о их смерти), чем описанные между ними чудеса, я представляю судить читателю, а сам отвечу только, что династическая схема совсем неправдоподобна с физиологической и даже с психологической точки зрения, и вот по какой причине. Рассматривая прилагаемую здесь хронологическую таблицу, мы видим, во-первых, что Начальная псевдо-летопись (был ли ее автор Нестор, или Сильвестр, или кто другой) доводит свой рассказ до конца первого крестового похода, причем за 12 лет до окончания летописи крестоносцы взяли Эдессу, но не нашу Одессу на Днепре, возможную столицу бывшего Хозарского царства, а столицу созвучного только с ним по имени Хозроенского царства, бывшего, — говорят нам, — около верховьев реки Евфрата. Правда, что эта малоазиатская Одесса у местных жителей никогда даже и не называлась Эдессой, т. е. Новым городом, а всегда называлась Урхоем (Urhoi) и теперь называется Урфой, но это, конечно, ничего не значит. Ведь таких случайных совпадений в древней истории без конца, и я отметил здесь такое лишь с мнемонической целью, чтоб у читателя запечатлелся тот факт, что взятая нами за основу первая половина Лаврентьевской рукописи окончена в разгар первого крестового похода.
И подумайте только! Ведь всего за 13 лет до ее окончания, в начале июня 1097 года Ахиллы и Аяксы крестоносцев взяли с бою почти соседку Царь-Града Никею, где считался первый вселенский собор и, наконец, 15 июня 1099 года, взяв с бою Иерусалим, освободили от неверных гроб самого Христа, взволновав все христианские страны. А разве это не могло не дойти и до Киева, взволновав все его духовенство, если они считали своими учителями византийских теологов, и имели с ними тесные единоверческие сношения?
И вдруг автору «Несторовой летописи», обнаруживающему везде близкое знакомство с византийскими писателями и судя по самой книге самому образованному ученому монаху своего времени, ничего этого неизвестно!
Вот, например, всего за два года автор пишет:
«В лето 6603 (т. е. по нашему 1075): Идоша половци на греки с Девгеневичем, воеваша по гречьстей земле и цесарь ял (взял) Девгенича (т. е. Диогенича) и повелел его ослепити».
Но половцы, иначе куманы, считаются за народ тюркского племени (тоже самое, что торки русских летописей), пришедший из Малой Азии в черноморские степи, и напасть на византийцев он мог только из Болгарии, с ее согласия. Однако я не буду подчеркивать этого недоуменья, а только укажу, что такая запись показывает, что летописец интересовался и чисто греческими делами, даже такими ничтожными, как стычка византийцев с каким-то Диогеничем, куманом.
А вот, через два года в самый год взятия Крестоносцами греческой Никеи всего в нескольких десятках километрах от Царь-Града, он ничего об этом не знает, а пишет о таких мелочах:
«В лето 6605 (по нашему 1097). Придоша Святополк и Володимер, и Давид Игоревичь, и Василко Ростиславович, и Давыд Святославич, и брат его Олег, и няшася Любячи на устроение мира, и глаголаша к себе, ркуще: