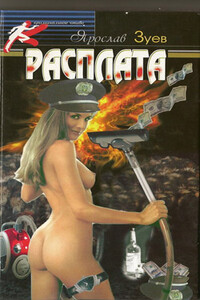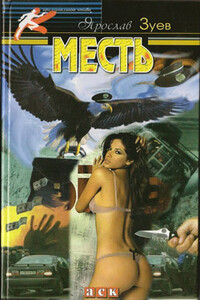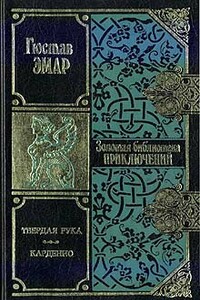— Что это за павлин? — шепнул я Вывиху.
— Тихо, сдурели вы что ли, Офсет?! — побелел Гуру. — Товарищ Джемалев — ученик самого Георгия Гурджиева, только он творчески переосмыслил дальневосточный эзотеризм, существенно обогатив его разными ближневосточными прибамбасами. Слил воедино мудрость монгольских лам и знания средневековых суфиев…
— Во как?! — вырвалось у меня.
— Джемаль? Ты где был? — спросил Шпырев, хмурясь. — Тебя обыскались, братишка…
На удивление, на этот раз начальник экспедиции обошелся без громов и молний. В моих глазах — это значило немало. С недавних пор…
— Я малилса за доблэстных красных шахыдов, уважаемый Ян-ага. — Чтоби Аллах смиластывылса над нымы и прыньял ых в райские кущи…
Сказано это было с большим достоинством и с еще большим акцентом.
— А почему на корме? — спросил Шпырев.
— Ибо кадисы вэлят правэдным, вазнася малитвы, сматрэть на Мекку…
— А… — протянул Шпырев. — Тогда ладно. Слушай мой командирский приказ, товарищ Джемалев. Вплоть и до особых распоряжений, именем товарища Дзержинского, назначаю тебя комиссаром экспедиции вместо интригана и перерожденца Триглистера, отстраненного по подозрению в злостном троцкизме и шпионаже в пользу империалистических ублюдков.
— А гдэ Триглистер? — спросил янычар. На его густо покрытом белилами лице не дрогнул ни один мускул…
— Арестован, — коротко сказал Педерс. — Уже дает признательные показания…
— Да смылостивится над ним Аллах, — важно промолвил Джемалев.
— Пару слов, как новый комиссар, скажешь?
— Если будет на то твоя воля, Ян-ага…
— Тогда давай, товарищ Джемалев, говори. От освобожденных народов востока, так сказать… — начальник экспедиции посторонился, уступая место новому оратору.
— Ас-салат, — торжественно и громко произнес тот. А затем дважды повторил это словосочетание нараспев, в точности, как делают с минаретов муэдзины: Ас-салат, ас-салат, ас-салат… — словно нарочно, чтобы я сподобился вспомнить молодость, проведенную в Египте. И, хоть минуло много лет, смысл этих слов всплыл в памяти сразу же. Фразой «ас-салат» муэдзины призывают магометан на молитву. Еще раз взглянув на товарища Джемалева, я обомлел, почувствовав, что уже где-то видел его. Не просто видел, но и встречался. Это было как в кошмаре, разыгрывающемся наяву, когда отказываешься верить в его материальность, изо всех сил надеясь, вот сейчас ущипнешь себя за щеку, и наваждение развеется. Но, оно — и не думало…
— В Коране сказано: никаму нэ абещана вэчный жизн. Каждий смэртный — вкусыт смэрть, такова волья Аллаха. Но он знает про каждого всье, и ваздаст каждаму, кто умэр…
— Жизнь революционера коротка, — продублировал Шпырев, поморщившись. — Но, кто за пролетариат костьми полег, тому и черви могильные нипочем…
— Кафиры пападут в ад, гдэ, как сказано у Ат-Тирмизи, им на голову пральется кыпящий смола, чтоби испэпэлит кишки. Но праведникам, которие умэрли за угодное Аллаху дэло, абэщан такой кайф, какого дажье вообразит нэльзя, так будэт харашо. Велик Аллах…
— Светлое будущее, — добавил начальник экспедиции. — То самое, про которое нам товарищ Мракс говорил…
— И, кто пападьет в рай, его ужье аттуда нэ виганят никогда. Так сказано в хадисах…
— Плюс электрификация всей страны и всеобщая грамотность, — сказал Шпырев, и его лицо стало задумчивым и печальным.
— Ля иллаха илла-лаху, Могамед-Рассул-Аллах, — продолжил нараспев товарищ Джемалев. — Пускай Амазонка станэт длья павших фидаинов священной водой Зам-Зам и утолит им жажду, прамачив губы. Инна лиляхи илляйхи раджун! Ми всэ — раби Аллаха и вазвращаемся к нэму…
Неожиданно Джемалев пустился в пляс. Я видел нечто подобное в Каире, кажется, это звалось танцем дервишей. И, тем не менее, все равно остолбенел. Танцор вскинул обе руки высоко над головой, встав в позу лотоса, и начал вращаться вокруг своей оси, сначала медленно, а затем, все быстрее и быстрее. Я все ждал, когда у него закружится голова, в итоге, она чуть не закружилась у меня, принудив отвести глаза. Не знаю, какую молитву напевал при этом товарищ Джемалев, я отчетливо разобрал лишь слово бисмиллях, он выкрикивал его раз за разом. Полы длинной белой юбки дервиша, одетой Джемалевым поверх галифе, поднялись до груди. Я подумал о юле.