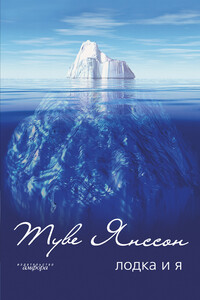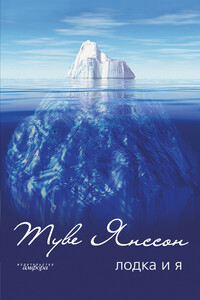Две крепкие руки хватают меня за плечи и силой втягивают под брезент. Над передней частью кузова натянут брезент. Веселый парень, карие смешливые глаза, буйная шевелюра. Что это ему вздумалось спасать меня от дождя? Отворачивается и больше не смотрит в мою сторону — как будто он тут вообще ни при чем. Понятно — он с девушкой и еще какими-то приятелями, их целая компания. А мама осталась стоять в задней части под ливнем. Жалко ее, но что я могу поделать?
Проехать нам удается не больше километра — колеса безнадежно увязают в жирной черной грязи, машина буксует, мотор глохнет.
— Все, приехали, слезай, кавалеры и барышни! — командует водитель.
Пассажиры послушно выпрыгивают прямо в грязь — предварительно разувшись. Ноги-то свои, а обувь, она денег стоит. Мама спускается последней. Вид у нее убитый, на лице горькая безутешная обида. Молчит, но капли дождя мешаются со слезами. Насквозь промокла, редкие прядки волос прилипли к черепу, платье облепило живот… Понятно без слов: никому не нужна, брошена на произвол судьбы, форменное издевательство… Меня, меня, а не ее эти наглые типы втащили под брезент…
На самом деле не такое уж страшное бедствие: теплый летний ливень. К тому же как хлынул внезапно, так и прекратился. Снова сияет солнышко, люди вокруг отряхиваются и смеются. Непонятно, конечно, что теперь делать, как добираться до Ялты. Ну что ж, придется вернуться к Жанне. Вряд ли это доставит ей особое удовольствие, но другого выхода нет.
— Екатерина Григорьевна! — кричит мама. — Вы посмотрите, что творится! Курица… По-моему, сдохла. Ей-богу, сдохла…
— Ну надо же — еще одна! — расстраивается Екатерина Григорьевна. — Утром две, теперь эта...
— Может, нажрались какой-нибудь гадости?
— Может… Главное, ходят-ходят, ничего особенного, вдруг встанут, голову опустят, глаза закроют, будто на молитве, и давай куролесить. Кругом себя бегают и крыльями хлопают.
— Только я вас умоляю: не вздумайте варить их! Дохлых…
— Уж за кого вы меня принимаете? — обижается Екатерина Григорьевна. — Чтобы я дохлятину стала варить! Как это вам на ум взошло? Разве что свиньям отдать…
— И свиньям не советую. Если яда нажрались, так и свиней погубите.
— Ваша правда, — соглашается Екатерина Григорьевна. — Но чего ж они у меня тут могли раздобыть? За забор не выходят, только по двору да в огороде.
— Может, траву какую ядовитую нашли.
— Вот горе-то… — вздыхает Екатерина Григорьевна. — Напасть на мою голову.
Куры дохнут — одна за другой. Но не все. Некоторые дохнут, а другие покружат, покружат по двору, упадут на землю, распластаются, подергаются, захрипят и некоторое время лежат совершенно неподвижно — дохлые, да и только. Но потом приходят в себя. Поднимают вдруг голову, подтягивают крылья, встают и, покачиваясь, отходят в сторонку. Половина умирает, а половина каким-то образом очухивается. Может, все дело в том, что им судорога схватывает горло и они от этого задыхаются? А некоторым все-таки удается отдышаться… Что если в тот момент, когда они падают на землю, помассировать им грудку и горлышко? Кажется, помогает.
Екатерина Григорьевна в отчаяние — уже двенадцать дохлых! Как же теперь пережить зиму без кур и без яиц?
— Я буду спать на улице, — говорю я.
— Что за выдумки? — возмущается мама. — Что значит — на улице?
— Не на улице, конечно, тут, возле дома.
— Ни в коем случае!
— Ты не понимаешь? Я не могу вынести этой духоты, я задыхаюсь тут!
— Полтора месяца переносила, а теперь, нате здрасте, задыхается!
— Полтора месяца было не так жарко.
— Не выдумывай!
— Как хочешь, в дом я не зайду.
— Боже мой, боже мой, что за проклятье! За какие грехи, чем я это все заслужила?! — стонет мама, но в конце концов соглашается, чтобы я вынесла свою постель наружу и легла под окном.
Уснуть я не могу, мне и на улице нечем дышать. Плохо дело, плохо, все тело болит. Болит — не то слово, разрывается от боли, руку не могу поднять. Пальцем шевельну, и то больно.
Ночь лунная. Очередная курица принимается кружить по двору, падает на землю, бьется, судорожно хлопает крыльями и наконец замирает, уткнув голову в песок.