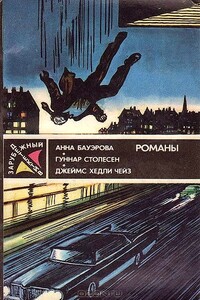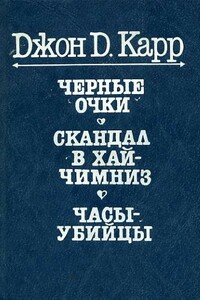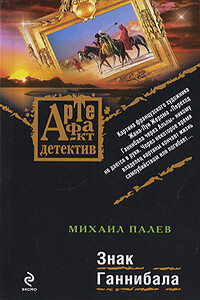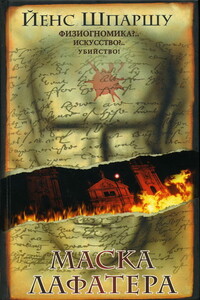Я проговорил тихо:
— Конечно. Я не буду, я… — и повернул голову, смущенно оглядываясь по сторонам, думая о том, как перевести разговор на другую тему. — Чем ты еще занимаешься? Работаешь?
Она сняла очки и положила их на стол перед собой. Взгляд у нее был рассеянный, ни на чем не сосредоточенный. Она с силой потерла глаза ладонями.
— Я работаю на полставки в административном управлении нашего фюльке, три дня в неделю.
— Значит, ты работаешь вот здесь, внизу?
Я взглянул из окна вниз на высокое темное здание нашего фюльке Хордаланд, и у меня мороз пробежал по коже. Здание, фасад которого отделан коричневыми металлическими пластинами, возвышалось на Набережной как бельмо на глазу; оно составляло резкий контраст по отношению к красивым деревянным домикам на улице Марквей. Когда начинались осенние шторма, или летние ливни, конечно же, все вокруг становилось темным, мрачным и негостеприимным, но не враждебным человеку, как это здание. Такого отвратительного сооружения жители фюльке явно не заслужили.
— Да.
Как будто бы читая мои мысли, она сказала:
— Я ведь помню… Когда мы въехали сюда, здесь был такой прекрасный вид на залив. Корабли приплывали и уплывали. Большие пассажирские лайнеры совершали рейсы из Сколтена в Америку…
— Да. Это было бог знает когда, как говорится, давным-давно. Как в сказке. Скоро уже никто в это не поверит.
Я встал и твердо решил больше не садиться.
— Ну что же, мне ничего не остается, как поблагодарить.
Она тоже поднялась.
— Ну что ж, и тебе спасибо.
Она проводила меня в прихожую, я надел пальто и открыл входную дверь.
— Ты мне позвонишь, если обнаружится что-нибудь новое?
— А ты этого хочешь?
Она молча кивнула, ничего больше не добавив. Я кивнул ей в ответ, беспомощно улыбнулся и вновь вышел на дневной свет.
Дневной свет обычно приносит облегчение, но иногда лучи солнца, как рентгеном, безжалостно пронзают человека насквозь. В то утро у меня не было настроения подвергать себя просвечиванию, и я вернулся в город по теневой стороне улицы. Настало время выяснить, захочет ли Конрад Фанебюст принять меня.
Наш город небогат героями, но этот человек был, несомненно, одним из них. В другие времена ему наверняка поставили бы памятник на центральной площади. В сороковых он воевал, в период оккупации был подпольщиком. О нем написано несколько книг. И мы, послевоенные мальчишки, говорили о Конраде Фанебюсте с таким же восторгом и уважением, как о Хопалонге Кассиди[18], Рое Роджерсе[19] и шетландском Ларсене[20]. В пятидесятые годы он заметно выдвинулся. Стать министром ему помешало только то, что он был членом не той партии. Выше мэра города ему было не подняться, но продержаться на этом посту он смог бы долго, если бы сам не решил покончить с политикой. Незаметно для всех он сошел со сцены, отступил за кулисы. Но время от времени в газетах мелькали сообщения, из которых следовало, что он успешно руководит пароходной компанией и даже процветает в не самые полноводные для судоходства времена. Его не забывали и приглашали на все юбилеи по случаю освобождения Норвегии, и каждый раз он использовал эту возможность, чтобы вспомнить своих товарищей по оружию, оставшихся безымянными борцов за свободу.
Контора Конрада Фанебюста, расположенная на третьем этаже, выходила окнами на городской парк. Шеф был надежно защищен от вторжений извне личным секретарем, занимавшим роскошную приемную с массивной темной мебелью, восточным ковром на полу и высокой пальмой в углу. Пробиться через приемную было делом непростым.
Секретарем оказалась молодая особа, хорошенькая, вежливая и непреклонная. Ей было, очевидно, немногим за тридцать; я заметил золотисто-каштановые прямые волосы, черный свитер и серую юбку. Но особенно мне запомнились ее белые руки, очень ухоженные, с блестящим лаком на коротко остриженных ноготках.
— Вы с ним договаривались о встрече? — вопрос прозвучал как правило, вызубренное из учебника.
— Нет, к сожалению. — Я грустно покачал головой.
— В таком случае, я боюсь…
— Не бойтесь. Просто передайте Фанебюсту, что речь пойдет о гибели нашего общего друга, Ялмара Нюмарка. Передайте, что это очень важно.