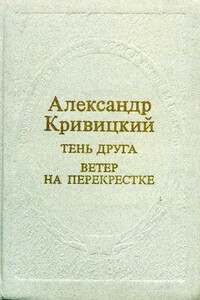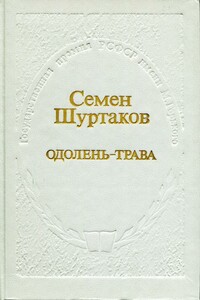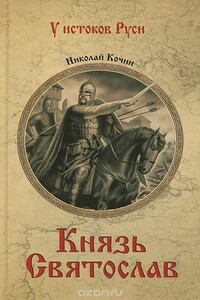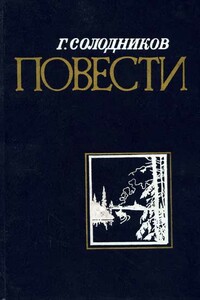Этому странному человеку было под пятьдесят. Он был так называемый «вечный студент». Служил в каком-то архиве и не оставлял вузов, переменил их несколько, всегда сколачивая вокруг себя группки последователей, находивших его «гениальным». Он имел вид изможденного каторжника или отшельника, с неистовыми глазами, сиплым, вздрагивающим, страстным голосом. Речь его была на редкость афористична, с уклоном в софистические тонкости. Смелость суждений у Ярочкина была ошеломляющей. Он утверждал, например, что те войны, которые перед нами прошли, есть только прелюдия к войнам, немыслимо катастрофическим для мировой цивилизации. Это было так страшно, что ему внимали с недоверием, но с тайным содроганием.
В подтверждение своих мыслей он имел привычку ссылаться всегда на ученые труды известных историков, почитаемых интеллигенцией. И знал он удивительно много этих авторитетов, начиная от Геродота и Тита Ливия и кончая Боклем, Момсеном и Максимом Ковалевским. Он выпаливал целые списки имен, цитировал страницами наизусть и, если ему надо было, тут же на глазах у слушателей без всякого затруднения из стопки книг находил нужную цитату в подтверждение своей мысли, и всем становилось очевидно и убедительно, что все эти опусы он не только читал, а штудировал, и это производило на присутствующих ошеломляющее впечатление, хотя все видели, что сами суждения его крайне экстравагантны и парадоксальны. Впечатление от речей усиливалось еще и его манерой держаться свободно, уверенно и просто, точно дома. Реплики отражал он остроумно и неожиданно, так что не всякий отваживался их кидать ему. Одет был в поношенную солдатскую гимнастерку и в серую солдатскую шапку. Потертая хламида на манер кафтана была подпоясана пеньковой веревкой. Говорили, что в его квартире, как и у Русинова, не было ничего, кроме книг, а кормился он от трудов своей жены-швейки, ибо его служба в архиве ничего ему не давала, кроме радостей находить любопытные факты в старых документах. Ярочкин был верным учеником Русинова, и то, что не договаривал на кафедре профессор, дополнял в бытовых разговорах и публичных докладах Ярочкин.
Была также распространена молва, что Русинов подготовлял Ярочкина к занятиям на своей кафедре русской истории.
В памятный вечер на очередном докладе Ярочкин доказывал, что война есть естественное состояние народов, как драчливость у детей или преследование жертвы в животном царстве, что история не знает ни одного часа на планете, когда кто-нибудь где-нибудь не воевал бы. Только характер войн непрестанно меняется: то воюет племя с племенем, то нация с нацией. Последние столетия принесли новую форму — борьбу гражданскую: борются одни силы с другими в рамках одного государственного организма. И это, утверждал Ярочкин, всегда признак государственного упадка и дряхления цивилизации.
— Появятся силы в истории, может быть, они уже зреют или только находятся в зародыше, которые потрясут весь мир своими безмерными претензиями на владычество и на неслыханную братоубийственность.
Послышались выкрики:
— Значит, прав Шпенглер, и закат Европы действительно не за горами…
— Ваш Шпенглер — плагиатор. Он украл идею у славянофила Данилевского.
— И Данилевский прав. По Данилевскому, последняя европейская возрождающаяся культура — славянская.
— Шпенглер — осел!
— Шпенглер — гений!
— И Данилевский и Шпенглер повторяют зады Константина Леонтьева.
— Реакционные зады!
— Мудрое пророчество!
— К черту это пророчество. Все, что не по Марксу, то вздорно и реакционно… Консервативно!
— Дурачье! Консерватизм есть тоже своеобразная форма устойчивости только что завоеванного…
Споры были невозможны, их заменяла ругань. Толпа не расходилась, все были возбуждены до предела и ждали, что выступит кто-нибудь из профессоров. Стали искать глазами профессоров. Присутствовал только один Русинов. Он поднялся на трибуну, и разом все смолкли.
— Чтобы сказать что-нибудь свежее и вернее, надо приготовить себя к неприятностям, — сказал Русинов. Я, пожалуй, уж готов. Право на высокую мысль и на благородное чувство должно быть куплено ценою испытаний. Так вот, я думаю, что докладчик прав.