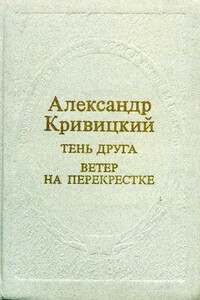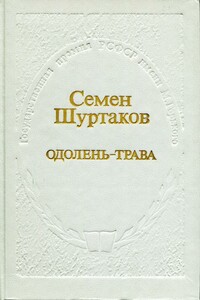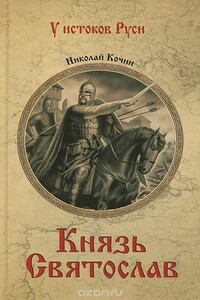Особняк купца Заплатина был комфортабельный: люстры с висячим хрусталем, паркетные полы, штофные обои, бархатные гардины, мягкая мебель. Гардины пошли на портянки, мягкая мебель угодила на растопку, почти все люстры пришлось выбросить за ненадобностью. И вскоре апартаменты Заплатина стали походить на заурядную казарму с тесно сдвинутыми кроватями, разной рухлядью по углам и барахлом, развешанным по гвоздям, кое-как вбитым в штофные обои.
Сенька заявился в общежитие, когда оно уже было забито кроватями до отказа, и он с трудом втиснул свою койку между другими, у самого окна, выходящего во двор. Зимой тут страшна дуло из простенка, и место это, похоже, никто не хотел занимать, Под кровать сунул узелок со скарбом, да так и прижился. В комнате разместились четырнадцать студентов с разных факультетов и курсов. Каждая комната имела прозвище, эту звали «ковчегом».
И так как на готовку хотя и скудной пищи все же уходило немало времени, то само собой образовались «коммуны» по три-четыре однокашника. По очереди один варил для всех, экономилось время. Коммуны эти возникали на разной основе: на основе ли обоюдных симпатий, или землячества, или соседства — спали рядом, но чаще всего по принципу той или иной степени обеспеченности. Деревенские отдельно, городские отдельно. Деревенские жили сытее всех, здоровее, серее одевались, старательнее учились, но были неопрятнее в быту. Им привозили из дому картошку, караваи ситника, а городские жили только на тех четырехстах граммах хлебного суррогата, который выдавался по карточкам. Зато они были одеты лучше, говорили правильнее и были воспитаннее. Некоторые из них, вконец изголодавшись, «шестерили» у деревенских: кололи дрова, чистили картошку, помогали в подготовке к зачетам и лекциям только за то, чтобы получить черпак похлебки или одну-разъединую картошину в мундире.
Коммуна, к которой пристал Сенька, состояла из людей пригородных и сельских. Это был прежде всего Федор Вехин, слесарь с Сормовского завода, человек, как говорится, тертый. Он протрубил семь лет на войне, мок в окопах, прошел через Красную гвардию, был комиссаром у Маркина, хватил холоду и голоду, был изувечен (у него удалены три ребра), но еще крепкий и сильный, точно сбитый. Говорил очень внушительно, держался независимо, любил верховодить. Он был несокрушим в принципах, посещал лекции только по социальным дисциплинам[2], следил за газетами, хорошо разбирался в политике, уже чувствовался в нем общественный деятель и трибун. Он был непререкаемым авторитетом в своей коммуне, в своей комнате, своем общежитии, на своем факультете. Его уважали, любили, по его мелочной опекой тяготились и при случае пугали им друг дружку.
— Ишь нахламил. Придет Аввакум, он тебе накостыляет…
Аввакумом прозвали его потому, что родители Федора были выходцами из старообрядского села Григорова Нижегородской губернии, в котором родился и неистовый протопоп Аввакум. По плетению словес, по неистовости темперамента Вехин и в самом деле напоминал чем-то Аввакума…
Вторым членом коммуны был Леонтий Вдовушкин — русый богатырь, крепыш, с красным, как морковь, лицом. Это была воплощенная доброта. Студентки его эксплуатировали нещадно. Он топил им печи, носил воду, колол дрова, чистил картошку, мыл полы. Он не мог отказываться, когда его просили, особенно если это были девушки. В нем пылал дух провинциального рыцаря. Прозвище ему дали «Дитя природы». Он был сыном почтового многосемейного чиновника, еле перебивающегося с хлеба на воду. Отец присылал ему конторские книги, из которых Леонтий выдирал листы, делал конверты и менял их на овес. Овсяная каша — роскошное блюдо…
Третьим членом коммуны был Сашка Демьянов — из кустарей села Большое Мурашкино, потомок новгородцев, сосланных Иваном Грозным. Оттуда, из Новгорода, предки Сашки занесли в нашу область шубный промысел… Романовские полушубки славились на все Поволжье. И сам Сашка ходил в таком полушубке, красивый, статный. Он ни с кем не вступал в спор, но охотно давал любые справки. «Не хочешь — не верь, — было написано у него на лице, — но лучше никто тебе не объяснит». Он всегда что-нибудь читал, даже идя на занятия, за едой, перед сном, в коридоре, на лекции, если она ему не нравилась. Не было на свете вопроса, который бы не интересовал Сашку. Все признавали молча его несомненное умственное превосходство и не обижались ни на его непререкаемый тон, ни на манеру разговаривать снисходительно и чуть иронически. Это был единственный студент в общежитии, который, недоедая, покупал книги, безбожно черкал на страницах, писал на полях, споря с авторами, оставляя обидные замечания и выговоры, и потом книги бросал. Он разговаривал с профессорами как равный, и то не со всеми. Сеньку в коммуне он считал самым отсталым и относился к нему как к меньшо́му брату.