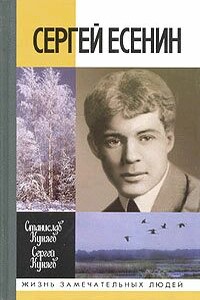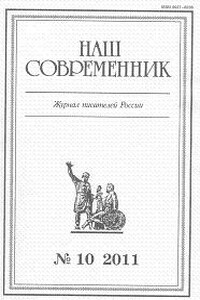Но дальше: «До „Нечаянной Радости“ я не читал лучшего, а потому прельстился ею, как полустёртой плитой, покрытой пёстрыми письменами, затейливо фигурными знаками далёкой, незнаемой руки, в которых нужно разбираться с тихостью сердца и с негордостью духа. Я не умею читать книгу с пеной у рта, и если вижу в написанном много личной гордости, самомнения, то всегда смотрю на это, как путник на развалины Ниневии: „Вот, мол, было царство, величие и слава, а стал песок попираемый!..“».
Снова идут сердечные слова о «Нечаянной Радости»: «Отдалённая, уплывающая в пьяный сумрак городских улиц музыка продрогшего, бездомного актёрского оркестра, скрашенная двумя-тремя аккордами псалтири. Уличная шарманка с сиротливой птичкой, вынимающей за пятачок розовый билетик счастья, с хозяином-полумущиной, с невозмужалой похотью в глазах, с жаждой встречи с вольной девой в огненном плаще, который играет и поёт только для того, чтобы слушали…»
Блок, читая новое послание, впитывает каждое слово и уже не в силах оторваться от листка. А Клюев всё заманивает, ласкает, неназойливо делится наболевшим, понятным лишь ему и Блоку: «Я недоумеваю, за что бранили меня публицисты, когда я высказал Вам впечатление, оставшееся от чтения этой книги, по бумажной ли привычке лаяться, по подозрению ли Вас в рекламе (хотя я не знаю, что было рекламного в моих словах) или по брезгливому представлению о нашей серости, по барскому отношению к простому человеку… Мне чувствуется, что отношения людей литературы умышленно нелепы и лживы. Литературные судьи, как и уголовные, избравшие своей эмблемой виселицу, служат смерти, осуждают во имя дьявола, а не во имя Духа истины, а потому и дела рук их ни на волос не устраняют лжи жизни — безобразия отношений человеческих, а прекрасному даже вредят, потому что оно всегда робкое, по капле нарождающееся».
Клюев только-только входит в литературу, а нелепость и лживость отношений в тамошнем мире чувствует сразу — по реакции на блоковский доклад. «Скажу я, что Ваши стихи красивы, — „господа“ публицисты догадаются: „Верно, Блок дал на сороковку“»… А ведь посмотришь то же «Золотое Руно» — и увидишь, как наряду с блоковскими статьями и клюевскими стихами там поминают «последнюю вспышку польской независимости», естественно, «жестоко погашенную», при описании польской старины в Румянцевском музее; прочитаешь первую песнь поэмы «Херувим» Станислава Пшибышевского под названием «Стезёю Каина», где сам Каин восклицает: «Ты изгнал нас из рая, а я создал рай новый, ещё более мощный, объемлющий небо и землю!»; «насладишься» рассуждениями Константина Бальмонта о «чувстве расы в творчестве» и о «нашем литературном сегодня»: там Вячеслав Иванов — «словесник-дистиллятор… так-таки чувствуешь аптеку, и очень доброкачественные трубочки и пузырьки, наполненные смесями разных эссенций», но где «до луга и леса довольно далеко», а Блок «неясен, как падающий снег, и как падающий снег творит мечту. Приведёт ли куда, не знаю, хорошо, что порою уводит её…» Всё — от ума, а не от сердца, не от души. Всё — игра, а не жизнь. Даже остро подмеченное Георгием Чулковым сходство Блока «Снежной маски» и героя «Снежной королевы» Андерсена — всё словно напоминает складывание из льдинок красивого узора… Нет, он, Клюев, чувствует Блока иначе.
«…„Земля в снегу“ — символ голубиной чистоты и Духа высоты, но старый грех, караморная мусорность жизни, уродливой изначала, изъязвили целомудренный белый покров бурыми, как сукровица, проталинами „культурной“ страсти, за которой, несмотря на пышный художественный альков, настойчиво маячит мёртвый провалившийся рот. Смертная ложь нашего интеллигента это, как мне кажется, не присущее ему по Духу вавилонское отношение к женщине. Многие стихи из Вашей книги похабны по существу, хотя наружно и прекрасны — сладкий яд в золотой, тонкой чеканки чаше, но кто вкусит от неё? Питьё усохнет, золотой потир треснет, выветрится и станет прахом. Смело кричу Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я — я!»
И Блок, для которого жизненно важен диалог с Клюевым в этот период, Блок, знающий цену любому печатному или устному уничижающему слову, принимает, как должное, и этот упрёк Клюева, и следующий, ещё более болезненный: «Отдел „Вольные мысли“ — мысли барина-дачника, гуляющего, пьющего, стреляющего за девчонками „для разнообразия“ и вообще „отдыхающего“ на лоне природы. Никому это не нужно, кроме Чулкова, коему посвящены эти „Мысли“».