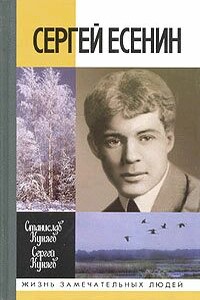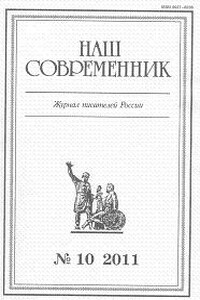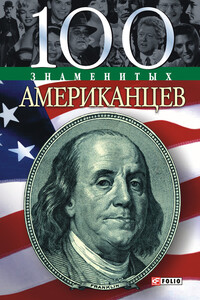В клюевских письмах Блок услышал: «Пробил твой час. Пора!» На протяжении всего 1908 года он пишет и публикует статьи, выдержанные в тональности, заданной в «Литературных итогах» и «Религиозных исканиях», принадлежащие к шедеврам литературной публицистики XX века: «Три вопроса», «Солнце над Россией», «Вечера искусств», «Ирония», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура»… В последней он опять будет приводить в свидетельство Клюева — фрагменты его статьи «С родного берега».
* * *
Статья эта была «подана» в виде письма Виктору Сергеевичу Миролюбову, редактору-издателю «Трудового пути». В январе 1908 года Клюев в письме ему из Николаевского военного госпиталя интересовался судьбой своих произведений. Но тогда уже дни журнала были сочтены. В марте он вышел под названием «Наш журнал» и тут же стал предметом пристального рассмотрения цензора Соколова, причём одним из материалов, особо обративших на себя внимание, стала анонимная статья «В чёрные дни», автором которой был Клюев.
«В этой статье, — отмечал цензор, — подъём революционного движения и его отлив рисуются в таких чертах, которые содержат признаки возбуждения к изменническим и бунтовщическим деяниям». Это ещё мягко сказано, если учесть смысл огненных инвектив, обращённых против «златоустов», для которых в очередной (и далеко не в последний!) раз народ оказался «не таким», каким они его себе представляли.
«В страшное время борьбы, когда все силы преисподней ополчились против народной правды, когда пущены в ход все средства и способы изощрённой хитрости, вероломства и лютости правителей страны, — наши златоусты, так ещё недавно певшие хвалы священному стягу свободы и коленопреклонённо славившие подвиг мученичества, видя в них залог великой вселенской радости, ныне, сокрушённые видимым торжеством произвола и не находя оправдания своей личной слабости и стадной растерянности, дерзают публично заявить, что их руки умыты, что они сделали всё, что могли, для дела революции, что народ — фефёла — не зажёгся огнём их учения, остался равнодушным к крестным жертвам революционной интеллигенции, не пошёл за великим словом „Земля и Воля“.
Проклятие вам, глашатаи, — ложные! Вы, как ветряные мельницы <…>, глухо скрипите нелепо растопыренными крыльями, и в скрипах ваших слышна хула на духа, которая никогда не простится вам. Божья нива зреет сама в глубокой тайне и мудрости.
<…> Народ-богочеловек, выносящий на своём сердце все казни неба, все боли земли, слышишь ли тех сынов твоих, кто плачет о тебе и, припадая к подножию креста твоего, лобзая твои пречистые раны, криком, полным гнева и неизбывной боли, проклиная твоих мучителей, молит тебя: прости нас всех, малодушных и робких, на руинах святынь остающихся жить, жить, когда ты распинаем, пить и есть, когда ты наполнен желчью и оцетом!..»
Эта огненная проповедь, где народ впервые у Клюева представлен распятым Христом, относилась не только к Михаилу Энгельгардту, который в статье «Без выхода» изобразил «русскую революцию пузырём, лопнувшим от пинка барского сапога». С не меньшим основанием её могли бы принять на свой счёт авторы грядущего сборника «Вехи», которые на полном серьёзе считали, что «весь идейный багаж, всё духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенцией. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а следовательно, её история есть исторический суд над этой интеллигенцией» (П. Струве), и уповали на власть, которая «своими штыками ограждает нас от ярости народной» (М. Гершензон).
Поистине, у интеллигенции была одна революция, а у народа — другая.
Слова Клюева о «мудрой осторожности перед опасностью» крестьянства, говорящие, что ещё нерастраченные силы затаились в тихом омуте, и о портретах террористки Марии Спиридоновой, которые вставляют в киот с лампадками, — окончательно решили участь журнала с его статьёй: он был подвергнут уничтожению «посредством разрывания на части».