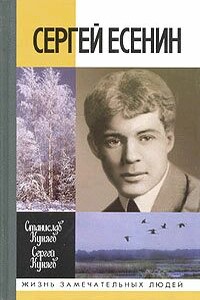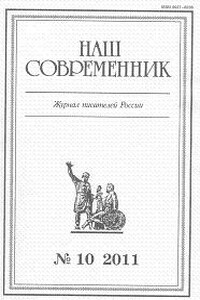Мне необходимо знать ваши фамилии и имена. Предлагаю писать вам в Каргополь. Простите, мои дорогие, если я вам скажу следующее: олонецкие города — это притон попов, стражников и полицейских. Ваша храбрость и надежда на пулю всем покажется разбоем, поэтому на время ссылки вы должны жить как все, если желаете приискать квартиру и хлеб. Здесь перебывали сотни молодых и благородных людей, но редко кто не забывал свои убеждения до сорока… Этим только и страшна ссылка. Пишу это потому, что до тонкости знаю каргопольскую жизнь, где, кроме церковных порогов, буквально негде кормиться. Преклоняюсь перед вашим страданием. Верю, что вы и в пропастях ссылки останетесь такими же, какими кажетесь мне. Я, отказавшись от земли и службы, — пешком с пачкой воззваний обошёл почти всю губернию, но редко где встречал веру в революцию — хотя убивать и грабить найдутся тысячи охотников… Сообщите, если знаете, адрес революционного местного комитета. Кстати, из какого вы города? Быть может, придётся увидеться, и очень отрадно, если у вас вера, что у меня те же убеждения».
Письмо человека, готового страдать за свои убеждения, переживающего, что он волей-неволей участвует не в той революции, о которой мечтает, чувствующего необходимость ободрить и поддержать товарищей по несчастью, о которых он знал ещё до тюрьмы, и одновременно внушить им необходимость слиться с окружающей жизнью «притона попов, стражников и полицейских». Духовная несломленность и душевная смута — вот что бросается в глаза в этом письме, перехваченном провокатором.
Провокатора звали Михаил Иосифович Кан. Газенпотский мещанин, который был выслан ввиду военного положения из Курляндской губернии в Каргополь, написал начальнику жандармского Олонецкого управления: «Имею честь сообщить, что я… до высылки служил агентом Курляндского жандармского управления, …что у меня есть много важных улик против Николая Клюева, содержащегося в Вытегорской тюрьме. Каргополь, 3 марта 1906 года».
Получив это донесение вместе с клюевскими записками, ротмистр Штандаренко наложил на него резолюцию: «Ввиду имеющихся неблагонадёжных сведений о Кане прошение оставить без последствий, о чём его не уведомлять. Исправнику же сообщить о неослабном надзоре за Каном. Запросить полковника Дремлюгу о Кане».
Тринадцатого апреля, в день наложения сей резолюции, пришло сообщение из канцелярии губернатора: «…Мещанин Михаил Кан, по уведомлению курляндского губернатора, состоял агентом при жандармском управлении, но доставляемые им сведения были неверны, и, в общем, он пользовался положением агента в интересах лиц, политически неблагонадёжных».
С записок Клюева были сняты копии, а в Каргополь ушёл запрос «о нравственных качествах и служебных достоинствах Кана». 2 мая пришёл ответ: «Мещанин М. Кан, служа в качестве агента… и будучи крайне любостяжателен, давал неверные сведения для лишнего получения денег, о чём и сообщаю Вашему Высокоблагородию. Полковник Дремлюга».
Так провокатору было отказано в его дальнейших услугах. К этому времени жандармов Российской империи, надо полагать, «достали» многочисленные провокаторы, сочинявшие в своих донесениях что было и чего не было — ради хорошей платы за услуги. При этом сами провокаторы продолжали деятельность бомбистов, террористов, боевиков, агитаторов — так что уже невозможно было определить, где собственно революционер, а где — полицейский агент. Случай с Каном был на поверхности — другие случаи до сих пор не расшифрованы до конца.
«Впервые сидел я в остроге 18 годов от роду (было ему тогда на самом деле 22 года. — С. К.), — вспоминал Клюев в 1923 году, — безусый, тоненький, голосок с серебряной трещинкой.
Начальство почитало меня опасным и „тайным“. Когда перевозили из острога в губернскую тюрьму, то заковали меня в ножные кандалы, плакал я, на цепи свои глядя. Через годы память о них сердце мне гложет…»
После четырёх месяцев в вытегорской тюрьме он был доставлен в петрозаводскую. Причём сначала значился в графе «пересыльные», потом попал в разряд «ссыльных» и после — переведён в «срочные». Последний перевод состоялся 13 июля, а 26-го Клюев вышел на волю.