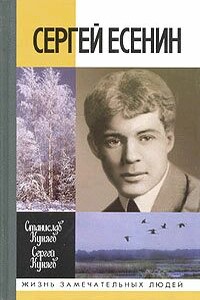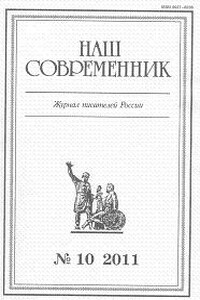Уже в 1978 году престарелый Вячеслав Михайлович Молотов, требовавший беспощадно бить по кулаку, отвечал на вопросы Феликса Чуева о тех трагических днях.
«Деревня сразу поднялась к коллективизации. Начался бурный процесс, какого мы и не предполагали. Получилось гораздо лучше, удачнее. Что касается раскулачивания, то в постановлении ЦК 5 января 1930 года отмечалось, где, в каких областях проводить коллективизацию, но, конечно, перегибы были, и немалые, и Сталин об этом говорил…
Я понимал крестьянских писателей: им жаль мужика. Но что поделаешь? Без жертв тут было не обойтись. Говорят, что Ленин бы не стал так поступать. Ленин в таких делах был посуровее Сталина. Многие говорят, что Ленин бы сам пересмотрел свои положения о диктатуре пролетариата, что он не был догматиком и т. п. Это им очень так хотелось бы, чтоб он пересмотрел…»
…Клюев готовился к переезду в Москву. В Ленинграде ему было делать уже нечего. Дни эти он при каждом удобном случае проводил с Анатолием.
«День и ночь заботливо пестует меня Клюев. Ни раскрыться, ни даже подумать ни о чём нельзя, чтоб он не предупредил меня своей тёплой заботой. Светлый мой друг. Я люблю его несказанно. Говорим с ним много. Он читает свои стихи из „Песнослова“. Поёт былины. Говорит о покаянии. О вере. Выводим вместе, что вера — это любовь…
Раз он поёт былину. Плачет и говорит:
— Русскому человеку всегда хорошо поплакать.
Встал как-то и, подняв веки, воспалённые слезами, промолвил:
— Тяжелы ступени чужих лестниц. Знаешь, хочется свой угол наладить» (из записок Анатолия Яра).
В Москву, где наладит Николай своё последнее вольное жильё, он переедет, обменяв питерскую площадь, в начале апреля 1932 года.
Глава 31
«…ВСЁ, КАК СКАЗКА, НА ГРАНАТНОМ…»
В 1930 году нищий Клюев хлопочет о персональной пенсии. Весной 1931 года на заседании рабочего президиума правления Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей составляется протокол со следующим заключением: «Учитывая литературные заслуги Н. А. Клюева как крупного художника слова, признать возможность возобновления ходатайства, несмотря на его антиобщественные тенденции, которые усматриваются в некоторых произведениях Клюева».
А в июле 1931 года на заседании комиссии по перерегистрации Союза Клюеву было предложено представить в Союз «развёрнутую критику своего творчества и общественного поведения». Слишком были очевидны последствия дальнейшего разбирательства «развёрнутой самокритики», и Клюев, приступивший к написанию соответствующего заявления, ни словом не обмолвился о написанной, так и не пристроенной в печать и читаемой на домашних чтениях «Погорельщине». Он сосредоточился на том, о чём знала вся литературная общественность — на публикации «Деревни» и последующей травле поэмы. Поначалу в выражениях он не стеснялся: «Если средиземные арфы живут в веках, если песни бедной занесённой снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему же русский берестяный Сирин должен быть ощипан и казнён за свои многопёстрые колдовские свирели — только лишь потому, что серые, с невоспитанным для музыки слухом обмолвятся люди, второпях и опрометно рассуждая, что товарищ маузер сладкоречивее хоровода муз? Я принимаю и маузер, и пулемёт, если они служат славе Сирина — искусства…»
Уже сам по себе этот пассаж (да ещё и с прозрачным намёком на недавно покончившего с собой Маяковского — «Ваше слово, товарищ маузер!»), надо думать, привёл в бешенство членов комиссии. 16 января 1932 года состоялось очередное заседание, на котором отказали в перерегистрации бывшим 33 членам Союза писателей, подтвердили исключение из Союза ещё 10 литераторов, а специальная формулировка, касающаяся Клюева, отличалась особой жёсткостью: «ПОСТАНОВИЛИ: исключить из Союза Клюева Н. — как абсолютно чуждого по своим идейно-творческим установкам Советской литературе — писателя».
Двадцатого января Клюев послал в правление новый вариант своего «Заявления». Собственно говоря, он не был особо новым — лишь слегка подредактированным. Но процитированные строки были убраны, а маузер (тут уж некстати вспомнится — «хрен редьки не слаще»!) был заменён на «финку»: «…справедливо ли будет взять на финку берестяного Сирина Скифии, единственная вина которого — его многопёстрые колдовские свирели». В результате, по смыслу сказанного, оклеветавшие Клюева смотрятся уже не воинами с маузерами, а жиганами из подворотни с финками в руках. Читавшие этого смысла, судя по всему, не «просекли», отсутствие «товарища маузера» и слёзное объяснение Клюева, что его погружение на дно Ситных рынков не «общественное поведение», а «болезнь и нищета», стало возможным поводом после долгих споров вычеркнуть имя Клюева из «чёрного списка» и поставить напротив него «плюс» красными чернилами.