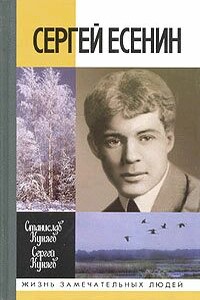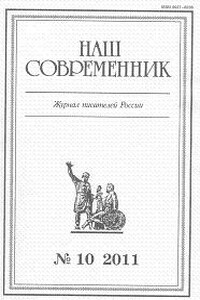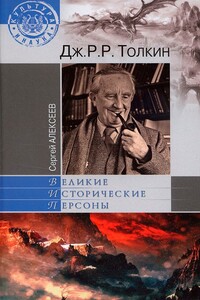Толки, ходившие про Клюева в «обывательской среде» и не только в ней, докатились и до наших времён. Бывший чекист Н. Пелевин уже в конце 1950-х годов рассказывал ленинградскому литературоведу Л. Когану, что Клюев, «елейный и подхалимистый», «собирал всяческими способами иконы, особенно старые, и, как потом выяснилось, торговал ими. Его, конечно, вскоре исключили из партии». То, что Клюев собирал старые иконы, сам реставрировал их, спасая «ценности народного искусства», знали многие вытегоры. Но ни о какой «торговле» речи не было — ценнейшие творения иконописи Николай станет предлагать на продажу своим близким друзьям и знакомым, испытывая тяжелейшие материальные лишения, уже будучи фактически выброшенным из литературы, когда редкие публикации не давали средств, необходимых для жизни.
«Судилище», предшествовавшее исключению из партии, сам Клюев воспринял скорее не как «Констанцский собор», а как полемику новообрядческого монаха Неофита с насельниками выговской староверческой общины и с их духовным главой Андреем Денисовым. Не из партии его исключили — новый мир отторг его от себя.
Но так ли чужд был по сути этот новый мир христианским заповедям? Ответ на этот вопрос дал через несколько лет митрополит Сергий (Страгородский) в послании к созыву Поместного собора Православной церкви.
«Что этот строй не только не противен христианству, но и желателен для него более всякого другого, это показывают первые шаги христианства в мире, когда оно, может быть, ещё не ясно представляя себе своего мирового масштаба, на практике не встречая необходимости в каких-либо компромиссах, применяло свои принципы к устройству внешней жизни первой христианской общины в Иерусалиме: тогда никто ничего не считал своим, а всё было у всех общее (Деян. IV, 32)… Борьба с коммунизмом и защита собственности нашими церковными деятелями и писателями в прежнее, дореволюционное время, по моему мнению, объясняется причинами для церкви внешними и случайными… Очень многие писали и говорили против коммунизма просто по привычке к своей, так сказать, государственности, по привычке на всё смотреть больше с государственной, чем с церковной точки зрения…
Я убеждён, что Православная наша церковь своими „уставными чтениями“ из отцов церкви, где собственность подчас называлась, не обинуясь, кражей, своими прологами, житиями святых, содержанием своих богослужебных текстов, наконец, „духовными стихами“, которые распевались около храмов нищими и составляли народный пересказ этого церковнокнижного учения, всем этим церковь в значительной степени участвовала в выработке… антибуржуазного идеала, свойственного русскому народу. Допустим, что церковное учение падало уже на готовую почву или что русская, по-западному некультурная, душа уже и сама по себе склонна была к такому идеалу и только выбирала из церковной проповеди наиболее себе сродное, конгениальное… Вот почему и утверждаю, что примириться с коммунизмом как учением только экономическим (совершенно отметая его религиозное учение) для Православной нашей церкви значило бы только возвратиться к своему забытому прошлому, забытому официально, но всё ещё живому и в подлинно церковной книжности, и в глубине сознания православно-верующего народа. Примириться с коммунизмом государственным, прибавим в заключение, для церкви тем легче, что он, отрицая (практически лишь в известных пределах, хотя это и временно) частную собственность, не только оставляет собственность государственную или общенародную, но и карает всякое недозволенное пользование тем, что лично мне не принадлежит. Заповедь „не укради“ остаётся основным положением и советского уголовного кодекса. Христианство же заинтересовано не тем, чтобы обеспечить христианину право на владение его собственностью, а тем, чтобы предостеречь его от покушений на чужую собственность…»
Эта проповедь нестяжательства, тем более актуальная и по сей день, не могла не быть близка Клюеву, который ещё в первый год революции услышал «Нила Сорского глас», отрицающий и мир, построенный на неправедно нажитом, и то «религиозное учение» мира нового, что оправдывает кощунства над святынями.