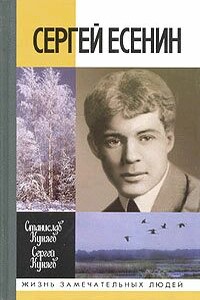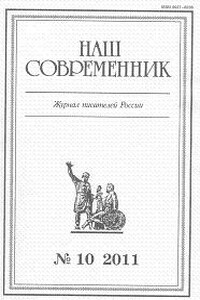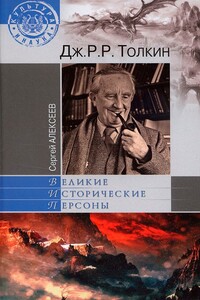Иногда такие реквизиции принимают анекдотический характер. Реквизируется без всяких оснований мелочь вроде шёлковых перчаток, бутылки чернил, несколько пачек папирос и т. п. Всё это не что иное, как голос внутреннего жандарма.
Этот голос проявляется или невинно, в виде личных визитов товарищей в галифе с револьверами, или сопровождается насилиями, расстрелами.
Победить внутреннего жандарма, в волнах революции выстирать свою душу — вот наши неотложные задачи».
«Жандарм» сей был, что называется, «на своём месте». Коли «Вся власть — Советам!», значит — мне. А коли мне власть — что хочу, то и ворочу!
Богданов, словно ловя с губ клюевское слово, заклинает, как древний проповедник, своих земляков с газетного листа.
«Заблистали молнии революции. В Петроград прибыл первый социал-демократ — Голод. Под стон февральских мятежей, песни октябрьских дождей родилось „Пламя, всему миру — Назарет“…
Больше братского единения и обнажённости.
— Будем строить —
— Во имя Солнца!» («Звезда Вытегры», 13 августа).
«Братья-интеллигенты, не насилуйте душу народную. И так почти всё оплёвано.
Посмотрите на красные мечи Зари! Почернел старый мир, как червь на солнце.
Братья, слышите ли вы звоны Серафимовых крыл в громах русской революции…» (Звезда Вытегры. 31 августа).
Это буквальное воспроизведение стиля клюевской проповеди — его статей, которые поэт публикует в той же газете и которые он складывает в книгу «Огненное восхождение», посланную им в Петроград и пропавшую бесследно.
«Какую нужно веру, чтобы не проклясть всё и вся и петь „Огненное восхождение“ народа моего…» Он и пел в течение всего 1919 года, о котором скажет потом в «Погорельщине»: «Год девятнадцатый, недавний, но горше каторжных вериг…» А тогда — не вериги тянули вниз, но незримые крылья возносили к чаемому Солнцу — и статьи — нет, не статьи — стихотворения в прозе, и даже не они — слова в апостольском духе исходили из-под его пера при старой коптильне… И вещались на площадях и собраниях.
«Алое зеркальце», «Сдвинутый светильник», «Красные орлы», «Красный набат», «Газета из ала, пляска Иродиадина», «Сорок два гвоздя», «Порванный невод», «Огненная грамота», «Медвежья цифирь» — вот из чего складывалось «Огненное восхождение», словно икона «Спас в силах» писалась.
«Помню, мамушка-родитель лампадку зажигала: одиннадцать поклонов простых, а двенадцатый огненный, неугасимый. От двенадцатого поклона воспламенялась громовая икона, девятый вал Житейского моря захлёстывал избу, гулом катился по подлавочью, всплёскивался о печной берег, и мягкий, свежительный, вселяя в душу вербный цвет, куличневый воскресный дух, замирал где-то на задворках, в коровьих, соломенных далях…
И Смерть-пастух с суковатым батогом в пятку ушла. Ступлю и главу её сокрушаю… Коммунист я, красный человек, запальщик, знамёнщик, пулемётные очи… Эй, годы — старые коровы! Выпотрошу вас, шкуры сдеру на сапоги со скрипом да с алыми закаблучьями! Щеголяйте, щёголи, разинцы, калязинцы, ленинцы жаркогрудые!..
Слушаю свою душу — степь половецкую, как она шумит ковыльным диким шумом. Стонет в ковылях златокольчужный витязь, унимает свою секирную рану; — только ключ рудный, кровавый неуёмен…
И за ветром свист сабли монгольской. Чисточетверговая свечечка Громовую икону позлащает. Мчится на огненном тарантасе, с крылатым бурным ямщиком в воздухах, Россия прямо в пламень неопалимый, в халколиван калёный, в сполохи, пожары и пыхи пренебесные…
Красные люди любят мою икону, глядятся в халколиванную глубь, как в зеркало. „Куличневый дух и в нашем знамени“, — говорят…» («Огненное восхищение»).
«Коммунары уходят на фронт.
Обнажайте головы!
Опалите хоть раз в жизни слезой восторга и гордости за Россию свои холопские зенки, вы — клеветники и шипуны на великую русскую революцию, на солнечное народное сердце!
Дети весенней грозы, наши прекрасные братья вступили в красный, смертный поединок.
Солнце приветствует их!..
Мы кланяемся им до праха дорожного и целуем родную, голгофскую землю там, где ступила нога коммунара!..» («Красные орлы»).
«Ключи от Врат жизни вручены русскому народу, который под игом татарским, под помещичьей плетью, под жандармским сапогом и под церковным духовным изнасилованием не угасил в своём сердце света тихого невечернего, — добра, красоты, самопожертвования и милосердия, смягчающего всякое зло. Только б распахнуть врата чертога украшенного в благоуханный красный сад, куда не входит смерть и дырявая бедность и где нет уже ничего проклятого, но над всем алая сень Дерева Жизни и справедливости…