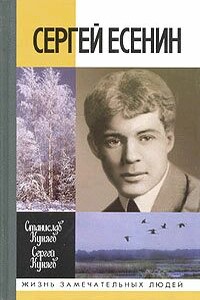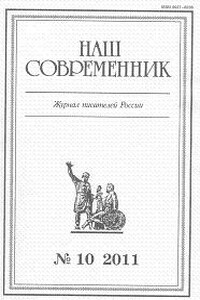Глава 18
«ОРФЕИ СЕРМЯЖНЫЕ»
1918 годом Есенин датировал своё, посвящённое Клюеву, стихотворение «Теперь любовь моя не та…»:
Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.
Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.
И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошёл, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?
Тебе о солнце не пропеть,
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.
Стихотворение, по-своему удивительное, и удивительнее всего в нём строки: «Ты сердце выпеснил избе, но в сердце дома не построил». Это — об «Избяных песнях», которые Есенин, как он сам писал и говорил недавно, — «ценит и признаёт». Чего же стоит это «признание», если «признаваемый» не может выстроить «дома» в своём «сердце»?
Ключ к этому стихотворению и, в частности, к этим строчкам, мы находим, как это ни парадоксально, у Василия Розанова. Для Есенина это имя на какое-то время стало путеводным.
«Есенин читает В. Розанова, — вспоминал Иван Грузинов. — Читает запоем. Отзывается о Розанове восторженно. Хвалит его как стилиста. Удивляется приёмам его работы. Розанов в это время для него как поветрие, как корь. Особенно нравились ему „Опавшие листья“…»
По сути во влечении Есенина к парадоксалисту Розанову не было ничего парадоксального. Не только «Опавшие листья» он штудировал в то время (Грузинов отнёс свои воспоминания к 1919 году, но пристальное чтение это началось раньше, в период запойной работы над «Ключами Марии»). И проинтерпретировал Сергей своего нового «учителя» совершенно нетривиально.
В книге «Среди художников» в статье, посвящённой сборнику сказок А. М. Смирнова-Кутачевского «Иванушка-дурачок», Розанов дал замечательный по-своему портрет хрестоматийного героя русских народных сказок. «Что же такое этот „дурак“? Это, мне кажется, народный потаённый спор против рационализма, рассудочности и механики, — народное отстаивание мудрости, доверия к Богу, доверия к судьбе своей, доверия даже к случаю. И ещё — выражения предпочтения к делу, а не к рассуждениям, которые так часто драпируют собой тунеядство и обломовщину. Посмотрите-ка на дурака в работе, — хочется аплодировать…
В слишком многих домах у русских всё доброе и крепкое принадлежит действительно „дураку“, то есть „придурковатому“ сыну в ряду других детей, придурковатому „брату“ среди способных братьев, но которые благодаря своей „талантливости“, во-первых, ничего не делают, а во-вторых, доходят до разных „художеств“, приводящих их даже в тюрьму. Эти талантливые „натуры“, очевидно, развалили бы весь дом — развалили и растащили, если бы не „дурак“, которому „художества“ и проступки и на ум не приходят, который только ест и работает, — ну, положим, как лошадь или корова (если случится быть „дуре-сестрице“, что случается). Но ведь и в дому крестьянском лошадь явно полезнее пьющего человека, озорного человека, лентяя-человека… В элементарной жизни, какова русская старая и русская деревенская до сих пор жизнь, „дурак“ и всё множество действительных „дураков“ играют огромную строительную и огромную сохранительную роль… И можно сказать, чуть-чуть преувеличив, что деревня только и живёт „стариками да дураками“ среди склонной „закучивать“ молодёжи и умников…»
А теперь вспомним письмо Есенина Иванову-Разумнику двухлетней давности, где Сергей подчёркивал, что назвал Клюева «середним братом… Значение среднего в „Коньке-горбунке“, да и во всех почти русских сказках — „так и сяк“…». И лишний раз акцентировал: Клюев «только изограф, но не открыватель».
И получалось, что именно Есенин — в отличие от Клюева — «играет огромную строительную и огромную сохранительную роль». И получалось, что прежний дом рухнул стараниями старших и средних «талантливых натур»… При том, что к этому времени кардинально начал меняться сам есенинский образ жизни — и уж, скорее, Клюев мог бы поглядеть на своего «меньшого брата», как на «пьющего человека, озорного человека, лентяя человека» (так и поглядит впоследствии). А для Есенина «всё доброе и крепкое» в его поэтическом хозяйстве — взято не просто из клюевских ларцов… Вынуто из клюевских рук, ослабевших и не могущих, в глазах «младшего», удержать собственное сокровище, на осмыслении которого и выстроятся гениальные «Ключи Марии» с отсылкой к Клюеву уже в самом названии трактата и примечании к нему: «Мария на языке хлыстов шелапутского толка означает душу».