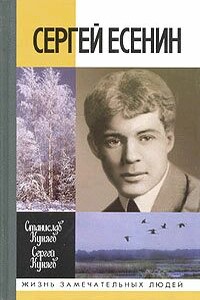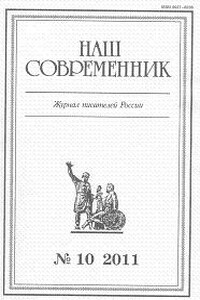* * *
Хронологию этих лет жизни нашего героя практически невозможно расписать — о событиях, причудливо перемежающихся в сознании поэта, мы знаем только с его слов. Не представляется возможным определить, в частности, хотя бы приблизительную дату одной из его встреч со Львом Толстым, о которой Клюев рассказал в той же «Гагарьей судьбине»: «За свою песенную жизнь я много видел знаменитых и прославленных людей. Помню себя недоростком в Ясной Поляне у Толстого. Пришли мы туда с рязанских стран: я — для духа непорочного, двое мужиков под малой печатью и два старика с пророческим даром».
«Двое мужиков под малой печатью» — скопцы с неполностью удалёнными органами (ядрами), а два старика, надо полагать, — руководители общины, считавшиеся пророками у единоверцев.
«Толстой сидел на скамеечке, под верёвкой, на которой были развешаны поразившие меня своей огромностью синие штаны.
Кое-как разговорились. Пророки напирали на „блаженни оскопившие себя“. Толстой торопился и досадливо повторял: „Нет, нет…“ Помню его слова: „Вот у вас мальчик, неужели и его по-вашему испортить?“ Я подвинулся поближе и по обычаю радений, когда досада нападает на людей, стал нараспев читать стих: „На Горе, Горе Сионской…“, один из моих самых ранних Давидовых псалмов. Толстой внимательно слушал, глаза его стали ласковы, а когда заговорил, то голос его стал повеселевшим: „Вот это настоящее… Неужели сам сочиняет?..“
Больше мы ничего не добились от Толстого. Он пошёл куда-то вдоль дома… На дворе ругалась какая-то толстая баба с полным подойником молока, откуда-то тянуло вкусным предобеденным духом, за окнами стучали тарелками… И огромным синим парусом сердито надувались растянутые на верёвке штаны.
Старые корабельщики со слезами на глазах, без шапок шли через сад, направляясь к просёлочной дороге, а я жамкал зубами подобранное под окном яснополянского дома большое, с чёрным бочком яблоко.
Мир Толстому! Наши корабли плывут и без него».
Уже после революции Клюев рассказывал переплётчику Вытегорской типографии М. Каминеру о том, что он посетил Ясную Поляну весной 1910 года, то есть незадолго до ухода и смерти Толстого. В изложении Каминера это выглядит так:
«Приехали туда, идёт по дорожке, женщину встретил простую.
— Дома ли граф?
— Дома.
— А графиня?
— Ох, наша графинюшка в одной оранжевой юбке скачет…
Вышел к нему Толстой.
— Здравствуйте, Лев Николаевич, — сказал Клюев.
И тот ответил:
— Здравствуйте, брат Николай».
Это больше напоминает вторую встречу уже знакомых людей, но ни о каком продолжении столь «содержательного» разговора нет и речи ни в воспоминаниях переплётчика, ни, судя по всему, в рассказе самого Клюева. Зато первая встреча чрезвычайно любопытна.
Состоялась она, как видно, ещё до бегства Клюева из секты, когда он был ещё «недоростком». Про «рязанские страны», то есть про Данковский уезд Рязанской губернии, где он продолжал общение с христами, Николай вспоминал и позже… А мимо Толстого эти «религиозные диссиденты» пройти не могли — поздний Толстой, автор «Исповеди» и трактата «В чём моя вера?» подобных персонажей притягивал к себе, словно магнит. О помощи Толстого духоборам хорошо известно, менее известно о его контактах со скопцами, в частности, о переписке со скопцом Г. П. Меньшениным, которому Толстой писал 31 декабря 1897 года: «Насильственное или даже добровольное оскопление противно всему духу христианского учения». А встретившись через десять с лишним лет, незадолго до смерти, со скопцом А. Я. Григорьевым, заявил, «что он с ним сходится, кроме оскопления», как указано в «Яснополянских записках» Д. Маковицкого. Так что слова Толстого, запомнившиеся Клюеву, полностью согласуются по смыслу с мнениями «второго царя России» по сему вопросу.
Но куда интереснее детали толстовского обихода, которые подмечает Клюев в Ясной Поляне! И «толстая баба с полным подойником молока», и «вкусный предобеденный дух», несущийся из открытых окон дома, где «стучали тарелками», и яблоко «с чёрным бочком», который грыз «недоросток», не приглашённый, как и его спутники, к обеденному столу (сектанты соблюдали строжайший пост, и можно себе представить, как временами мучился от него Николай!) — всё это произвело на него куда большее впечатление, нежели отказ Толстого согласиться со скопческим «блаженством», отчего слёзы выступили на глазах у старых корабельщиков… Толстой — моралист и проповедник опрощения и обращения к «простому трудовому народу», о чём вещал в «Исповеди», — в его глазах предстал человеком, совершенно не соответствующим тому образу, который, судя по всему, был вымечтан.