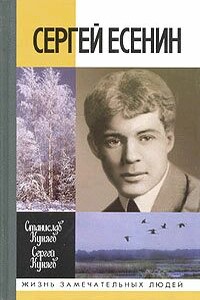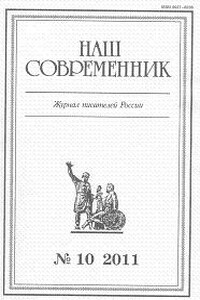Но — куда деть три столетия блестящего петербургского периода, когда все живущие поколения памятью и родословной принадлежат ему кровно?
Есть в Смольном потёмки трущоб
И привкус хвои с костяникой,
Там нищий колодовый гроб
С останками Руси великой.
«Куда схоронить мертвеца», —
Толкует удалых ватага…
Позёмкой пылит с Коневца,
И плещется взморье-баклага.
Спросить бы у тучки, у звёзд,
У зорь, что румянят ракиты…
Зловещ и пустынен погост,
Где царские бармы зарыты.
Их ворон-судьба стережёт
В глухих преисподних могилах…
О чём же тоскует народ
В напевах татарско-унылых?
«Татарско-унылые напевы» возвращают к «златоордному мурзе» — ибо других напевов у живших под Романовыми, как под Золотой Ордой, пока ещё нет… И живы ещё Николай, Александра, их дочери и сын… Но Клюев уже зрит всё наперёд.
А хоронить… Хоронить ненавистную романовщину он готов вместе со всеми «февралистами» — всех в одну яму.
Керенками вымощенный просёлок —
Ваш лукавый искариотский путь.
Христос отдохнёт от терновых иголок,
И легко вздохнёт народная грудь.
Сгинут кровосмесители, проститутки,
Церковные кружки и барский шик,
Будут ангелы срывать незабудки
С луговин, где был лагерь пик.
«Кровосмесители» и «церковные кружки» явственно напоминают о «Башне» Вячеслава Иванова, сожительствовавшего с падчерицей, и о «Религиозно-философских собраниях», суть которых беспощадно обнажил Блок. Но главное — дальше, а дальше — призыв к «русским юношам, девушкам»:
В львиную красную веру креститесь,
В гибели славьте невесту-Россию!
Так впервые в «революционном» цикле появляется образ льва. На колоннах «Львиной капители» в долине Ганга львы, спящие с полуразверстыми лапами, символизируют Север. Но неизбежно возвращение ещё к одному смыслу — к смыслу подвига мучеников-христиан, травимых львами в римском Колизее. Те — славили Христа. Этим — новым мученикам — славить «невесту-Россию»… И отвечать злом на зло, презрев христианскую заповедь:
Жильцы гробов, проснитесь! Близок Страшный суд
И Ангел-истребитель стоит у порога!
Ваши чёрные белогвардейцы умрут
За оплевание Красного Бога.
…………………………………………
За то, чтобы снова чумазый Распутин
Плясал на иконах и в чашу плевал…
Это не Распутин, никогда в жизни не плясавший на иконах, а его отложившаяся в памяти газетная карикатура… Но вспомним бердяевское противопоставление «распутинской чёрной хлыстовской идеи» и ленинской «красной хлыстовской стихии»… Русский обыватель, читая подобное, мог бы только, перекрестившись, произнести про себя: «Хрен редьки не слаще»… Но Клюеву «красное хлыстовство» — слаще. И ещё как слаще!
Хвала пулемёту, несытому кровью
Битюжьей породы, батистовых туш!..
Трубят серафимы над буйною новью,
Где зреет посев струннопламенных душ.
От такого многим станет не по себе… Клюев, словно ангел мести, призывает к умерщвлению «битюжьей породы», дабы на земле, пропитанной кровью, вызрел новый посев под Серафимовы трубы. Он уже ощущает себя «право имеющим», проповедником от новой земли, парадоксально перекликаясь с «пророком Есениным Сергеем».
Я — посвящённый от народа,
На мне великая Печать,
И на чело своё природа
Мою прияла благодать.
…………………………
Пусть кладенечные изломы
Врагов, как молния, разят, —
Есть на Руси живые дрёмы —
Невозмутимый светлый сад.
Он в вербной слёзке, в думе бабьей,
В Богоявленьи наяву,
И в дудке ветра об арабе,
Прозревшем Звёздную Москву.
Это вам не «Я гений Игорь Северянин», что «повсеградно оэкранен» и «повсесердно утверждён» и который в том же 1918-м объявлен «королём поэтов». Гениев за последние 20 лет развелось, как собак нерезаных. А посвящённый от народа — один.
Клюевская революция явно не по Марксу. И не по Ленину. Пока в стихах, посвящённых последнему, лишь обрисован идеальный образ — пример того, кто обязан стоять во главе новой России… А Инония ещё раз отразится в клюевских стихах — в небольшой поэме «Медный Кит», уже пронизанной тревожным чувством, что такой, как Клюев, при пролетарской культуре «должен погибнуть».
«Газеты пищат, что грядёт Пролеткульт», — а для этой жуткой организации деревенская изба — смертельный враг. Тревожные образы наплывают друг на друга, и, кажется, в пределах небольшого стихотворного пространства радость успевает многократно смениться смертной горечью. «Увы! Оборвался Дивеевский гарус, / Увял Серафима Саровского крин…» Словно есенинский ураган-торнадо смёл с лица земли всё драгоценное для Николая — и эту жертву надо принести, хотя совсем не есенинская «Инония» встаёт перед глазами: