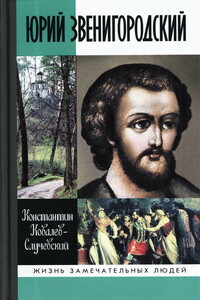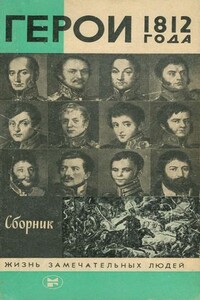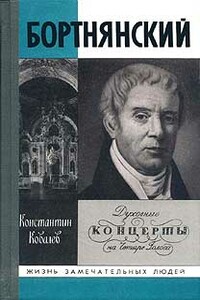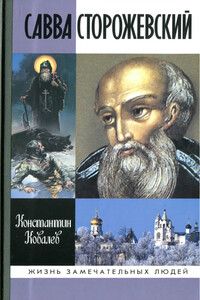Историк В. О. Ключевский в своем труде «Древнерусские жития святых как исторический источник» в качестве приложения опубликовал «Слово иже во святых отца нашего Николы, о житьи его и о хожении его и о погребении». Текст его для наших рассуждений — весьма интересен. Мы видим, что духовная зрелость и пастырский дар открылись для святителя еще в четырнадцатилетием возрасте. А еще через три года уже пошел слух о совершаемых им чудесах. «И св. Никола, — читаем мы в Житии, — измлада оставил славу и богатство сего суетного света и желая наследите царство небесное, не опочивая день и нощь, моляся Богу, и научи люди слову Божию истинным писанием. Во дни дело его в церкви на молитве, а в нощи без сна пребывая, моляся Богу. От рожества его лет 14 пошол по пророка слову Давида: яко птица иду в пустыню, а при себе держал образ животворящего креста Господня и всю бесовскую силу поправ. И дошед Кесария Филипповы, и жил три лета, тесный и скорбный путь ходяше, чистоту душевную и телесную соблюл, а недужных, приходящих к нему с верою, силою Христовою исцеляя». То есть к семнадцати годам он уже стал настоящим пастырем (пока оставим в стороне тему необычности Жития, опубликованного Ключевским, что само по себе не менее важно).
Для чего нужны все эти рассуждения? Для того чтобы ощутить, что святитель Николай Чудотворец мог быть (и, скорее всего, был) не столь уж «старым» не только во время рукоположения в священнослужители, но и в конце своего жизненного пути. То есть идея о его возрасте больше семидесяти лет при кончине — лишь рабочая гипотеза антрополога, которая неожиданно повлияла на попытку изменения дат рождения и смерти некоторыми другими историками.
А может, не стоит спешить?
Более того, судить о старости и мудрости в те времена по признаку многолетия проживания на Божьем свете не вполне верный путь к определению дат жизни того или иного исторического деятеля. Что мы имеем в виду? Простую истину, хорошо понятную историкам: старость в древние времена наступала намного ранее, чем, например, сегодня. Человек, доживший до пятидесяти лет, уже был стариком! А тридцатилетний — более чем зрелым гражданином страны. Возраста 70 или 80 лет достигали единицы. То есть останки человека пятидесяти-шестидесяти лет могут быть похожи на те, что имеют возраст за 70, особенно если сравнивать их с останками наших современников.
В книге современного исследователя Римской империи и Ромейского царства С. Б. Сорочана «Византия. Парадигмы быта, сознания и культуры» читаем: «Средняя продолжительность жизни византийцев составляла для мужчин — 35–44 года, а для женщин — 25–34 года, что вообще было обычно для античного и средневекового общества. Старость тогда начиналась очень рано, в том возрасте, который мы сегодня называем зрелым. Пожилым считался уже 50—60-летний, а 70-летний — очень старым. «Долгожителями» являлись отдельные василевсы, ученые, писатели и монахи, конечно, если их жизнь не обрывалась насильственно, от раны в бою или мечей заговорщиков. 71 % ромеев умирал, не достигнув возраста 45 лет, и 74 % не добиралось до 50 лет. Очень немногие переживали 70-летие. По этой причине византийское общество, как и любое средневековое, оставалось достаточно молодым. Средняя продолжительность жизни с нашей точки зрения была мизерной — 22–23 года».
И — главное — возраст и продолжительность жизни не были мерилом святости, даже если древние авторы житий иногда и увлекались расписыванием особенных деяний старцев в преклонном возрасте. Можно привести примеры из иконографии святых (иконографических подлинников), когда в XVIII столетии для изображения лика святого Вячеслава Чешского предписывалось показать у него длинную бороду — признак мудрости и старости. Хотя он был убит братом в возрасте едва за 30 лет от роду.
Что мы хотим этим сказать? То, что святитель Николай Мирликийский мог прожить в диапазоне от 50 до 80 лет. Ведь епископ (архиепископ) тогда не обязательно должен был быть глубоким стариком (что отчасти подтверждают его Жития). Привычное для наших современников желание измерять глубину духовных подвигов старческим возрастом — для деятелей III–IV веков в истории европейской цивилизации — не совсем удачно при употреблении в сфере науки.