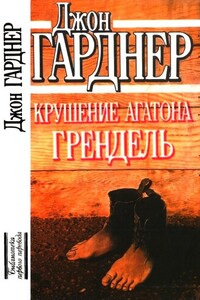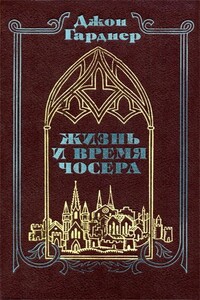Я рассказывал ему все это, и он сиял, поддразнивая, словно отражение в зеркале.
— Именно так! Именно так!
Полина окликнула нас сверху, спросила, не останусь ли я поужинать. Я сказал, что должен встретиться с Джоанной в ресторане — она работала над пьесой для флейты, — но, взглянув на часы, понял, что уже опоздал на полчаса. Я встал, свалился, снова поднялся — комната кружилась, как Эйнштейново мироздание, — и стал искать свое старое черное пальто. Джон Нэппер явно встревожился.
— Я пойду с вами, — сказал он. Полина остановилась в дверях. Я нашел пальто, кое-как натянул его, отыскал и свою мрачную черную старую шляпу. Они поговорили между собой. — Подождите, Джон! — крикнул мне Джон Нэппер. — Мы идем с вами. Обязательно! — Они сияли от радости. Лучше они ничего не могли придумать. Полина стояла в дверях, высокая, внушительная, готовясь подхватить меня, если я опять споткнусь. Голову она наклонила, широко улыбаясь, как женщина на старинных индийских барельефах, — девушка, стучащая по дереву. Символ плодородия. У нее были огненные крылья. В углу Джон ползал на четвереньках, разыскивая башмаки. Он щелкнул пальцами, встал и прошел мимо меня. Вскоре они оделись. Полина, элегантная, высилась до небес. Джон, в черном костюме, ослепительно белой рубашке, — еще элегантней; он мог поспорить величием с Эдуардом Седьмым — ослепительный, как Спаситель наш. Иисус Христос во всей славе второго пришествия.
Мы поймали такси. Мы говорили о Малере и метафизике.
Мы приехали в ресторан, когда Джоанна уже поужинала. В гневе она была прекрасна. Ее рыжие волосы, как языки пламени, струились по темно-синему платью.
— Какая ты красивая! — сказал я.
— Свинья! — сказала она. Я подмигнул Джону.
— Чудно! — сказал он и стал что-то плести. Хотя Джоанна и хмурилась, я все же выпил вина. Вскоре — не помню, как это случилось, — кто-то полез со мной в драку. Из-за Самуэля Беккета, если не ошибаюсь. Джоанна выбежала в слезах. Полина бросилась за ней на улицу.
Потом я очутился вместе с Джоном Нэппером в такси — мы отчаянно гнали эту черную приземистую колымагу. — Черт бы побрал этого дурака валлийца! — сказал он. Его шевелюра походила на сияние. Его профиль был воплощением идеи Платона о царственности.
— Я его одолел? — спросил я. Губа у меня кровоточила.
— Ты был великолепен! Великолепен! — Джон Нэппер закинул голову и расхохотался. Я сидел, сгорбившись в темноте.
— Вы сумасшедший! — ласково сказал я, покачав головой. — Всегда видите во всем только хорошее.
— Но ведь хорошее есть! — сказал он, будто это самая неопровержимая истина на свете. — И драться с этим, закрывать глаза на все хорошее тоже чудесно. Мне это нравится. Но понимаешь, человек стареет, теряет это кабанье упрямство. Эх, стать бы снова молодым, бунтарем. — Вид у него был молодой, бунтарский.
— Сумасшедший! — сказал я.
— Вот именно! — сказал он. Он наклонился вперед, огромный, на голову выше меня. За окном такси, словно сон, пролетало Челси. (Тернер жил двойной жизнью — две разные жизни, две разные жены. В одной жизни он был неким капитаном, настоящим морским волком, в другой — прототипом диккенсовского Скруджа, хотя на самом деле был тайным филантропом.)
— Вот именно, — сказал Джон Нэппер.
— Вот именно! — прошептал он и, блестя широко раскрытыми глазами, метнул улыбку в темноту, как копье.
Люси купила свой портрет за семь пенсов. Не за американские пенсы. За те английские монеты, что и темнее и тяжелее, те, что кладут покойникам на глаза, чтобы не дать им снова открыться.