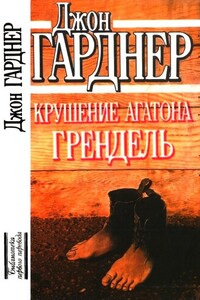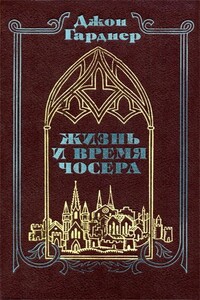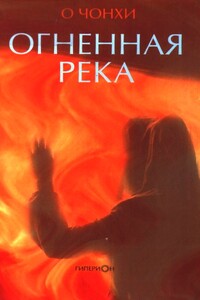Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы - страница 155
На «Иерусалиме» был один гарпунер, чье имя, насколько я в состоянии его воспроизвести, на письме выглядело бы примерно так: Каскива. Это был крепкий коренастый индеец, за все время не произнесший ни слова. Б своем деле он уступал одному только Нгуги, африканцу с белой костью в носу, и, подобно Нгуги, гордился своей дикарской выправкой, не носил другой одежды, кроме кожаных штанов и рубахи, даже здесь, у побережья Антарктики, и не сдавливал босых ступней никакой обувью, кроме мокасин. Вокруг шеи у него мерцали цветные бусы, стянутые туго, как мертвая петля, а под правым ухом болталось перо в серебряном кольце. И без разговора было понятно, что он у своих был как бы языческий святой. Его мягкие карие глаза неотрывно, не моргая, глядели в даль моря. Ничто телесное — ни человек, ни зверь — не удостаивалось его взгляда. Лично я готов поклясться, что никогда в жизни или по крайней мере в последние годы жизни Каскива не испытывал ни злобы, ни печали, ни угрызений, ни обычной человеческой радости. Умирая, как мне рассказали — а умер он, шагнув за борт прямо в море, — он не выразил на своем лице ни тени горечи или страха. Он не был безумен в том смысле, как это обычно понимается: на носу вельбота он был зорок и бдителен на зависть любому гарпунщику и твердостью руки, меткостью броска не уступал самому Джиму Нгуги. Но он не был и в здравом уме, как это обычно понимается. Он сознавал, где находится, сознавал, что происходит, но сохранял ко всему, как говорится, полнейшее равнодушие. Он был живой мертвец, и в то ясное, холодное утро, когда мы похоронили чернокожего беднягу, я узнал, в чем тут причина.
Каскива сидел верхом на поручне фальшборта, одну ногу перекинув в шлюпку и по обыкновению разглядывая океанскую даль, когда я, чтобы отвлечься от мыслей о собственной вине, от недоверия к Августе, от страхов перед какими-то надвигающимися ужасами, подошел и заговорил с ним.
— Прекрасный денек, — говорю и кладу ему руку на плечо.
Он смотрит вдаль.
— А мы уже, почитай, две недели идем на юг, — продолжаю я. В моей крайности я назойлив. — Чудеса да и только!
Каскива смотрит вдаль.
Я с минуту разглядываю его, потом собираюсь с духом и провожу ладонью у него перед глазами. Ни малейшего действия.
— Ты человек молчаливый, Каскива. Верно, тебе много чего надо обдумать.
И я почтительно улыбаюсь.
Опять ничего.
Озадаченный, наклоняюсь к нему, мне обидно, что индеец оберегает от меня секрет своего спокойствия. Я прослеживаю глазами, куда он смотрит; мне вдруг кажется, что я угадываю его мысли. Я ведь тоже когда-то ощущал себя заодно со всем, что ни есть в мире живого и неживого.
— Там где-то живет твоя скво, верно? — говорю. И, подумав, добавляю: — Вернее, раньше жила. Вот именно! Жизнь утратила смысл, она теперь — только провал между настоящим и прекрасным будущим, когда ты снова увидишь свою скво на Счастливых Угодьях.
Ни малейшего внимания.
Я продолжаю наобум, все горячее, повышая голос. При этом, сощурив глаза, я смотрю в даль моря в том же направлении, что и он.
— Удивительная вещь, Каскива. Мы, люди, если и смотрим друг на друга, то разве как на мебель. До этой минуты мне просто не приходило в голову, что ты, Каскива, при всех твоих диких повадках и одежках, — тоже человек. Такой же человек, как я или как… — я шарю глазами по палубе, — …или как вон Уилкинс. — Мысль, что и Уилкинс тоже простой смертный, поразила меня. Но я поспешно продолжаю: —Можно загубить всю свою жизнь, так и не сообразив, что твой ближний — тоже человек. Свою жизнь и его. Пустынная штука — этот мир, эта малая пылинка в бездне. На такие темы мы недостаточно размышляем.
Не произнеся ни слова, не повернув головы, Каскива протянул мне руку, словно для молчаливого дружеского рукопожатия. Я протянул ему навстречу свою. Он уронил мне в ладонь два гриба.