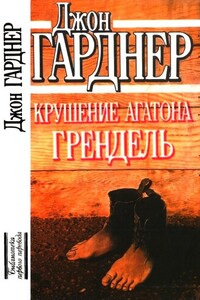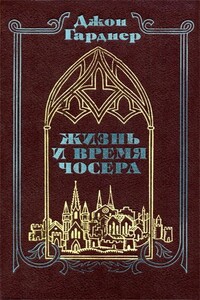Отсюда и родился мой план.
Рано по утрам и попозже вечерами, навоевавшись с невежеством и распустив учеников по домам, где от них пока немного отдохнули, я брался за всевозможную случайную работу. Я был здоров, как вол, и притом остер умом — так, во всяком случае, считалось. Я таскал на пристань сундуки и чемоданы, выкатывал на берег бочки с китовым жиром, вел счетные книги за матушкиного младшего брата-аптекаря и даже прослужил некоторое время работником у нашего пастора, преподобного Вильяма Дункеля. У него были серо-стальные волосы, послушные и гладкие, как оплывший воск, а борода — в анархических завитках и подпалинах. Усов он не носил, так как гордился почему-то своей длинной верхней губой и победно возвышавшимся над нею большим и грозным английским носом. На мой взгляд, он эксплуатировал меня самым бессовестным образом, но это еще было не самое худшее. Он к тому же старался по каждому поводу давить на мою психику.
— Порядок, Апчерч, мой мальчик, — это неприятное понятие, — говорил он однажды, пригибаясь, чтобы заглянуть мне в глаза, а я, дыша бурно, как пророк, колол у двери его погреба дубовые чурки. На нем был его всегдашний костюм цвета маренго, сшитый на заказ в Нью-Йорке и склонявший меня к подозрению, что он на самом деле много богаче, чем хочет нам представиться. — Порядок — неприятное понятие, в нем столько отталкивающего смысла, но надо научиться видеть то, что за черной, теневой стороной, радоваться весомым плодам.
— Да, сэр, — пыхчу я. Поставил еще одну чурку и давай садить по ней топором. Преподобный выпрямляется, засовывает большие пальцы в боковые карманы и щурится, чтобы щепа в глаз не залетела. И продолжает, придав своему лицу еще больше строгости.
— Первые представления о Порядке, — говорит он, — дали мне темный чулан, и отказ в материнском поцелуе, и линейка учителя, и стояние в углу. Позднее я познавал Порядок, когда подчинялся, того не желая, правилам колледжа, поступался своей свободой, принципом «делай, что хочешь». Порядок был в том, чтобы учить до головной боли уроки в жаркий летний день и неукоснительно соблюдать веления долга, когда зеленые луга, ласковые ветерки и пушистые облачка согласным хором зовут на волю. Потом Порядок являлся мне в видениях, я наблюдал его подданных в колодках, с изодранными, распухшими ногами, с воздетыми к небу ладонями или гонимых силою в дышащую жаром пещь огненную, или возводимых, также против воли, на костер. Я трепетал при слове «Порядок», ибо оно означало страстотерпие, и ничего больше. Ныне же я произношу его с благоговением, ибо где Порядок, там и Слава!
— Да, сэр, — отозвался я и утер лоб рукавом. Достопочтенный Дункель мог так вещать хоть целый день — да что там день, — хоть столетье! Подбородок его, скрытый под величавой бородой, был не слишком внушителен, зато такой угрюмой улыбки я не видел ни у кого — кроме разве одного бразильского охотника за головами. Моя мать утверждала, что он не обидит и мухи, и я по справедливости должен признать, что на моей памяти он ни разу не утрудил себя, чтобы дать пинка бешеной собаке. Но все равно в нем было нечто дьявольское, как в Флинте. Он писал статейки о грехе и адских муках и рассылал в журналы для юных девиц.
— Тебе понятно, о чем я говорю, мой друг? — спрашивает он, подняв брови.
— До некоторого предела, — отвечаю.
Он мрачно кивнул и потер нос большой квадратной ладонью.
— Так оно в жизни все и идет, — вздохнул он. — Что нам понятно, то не суть важно.
Я скоро нанялся на другую работу, поспокойнее.
Новым моим хозяином стал мясник, краснолицый, неразговорчивый голландец. Я так преуспел у него, что вскоре из рассыльного сделался приказчиком. Планы мои близились к осуществлению — я, как Мидас, обращал в золото все, к чему ни прикасался. Мои ровесники плавали на китобойцах, обдирали себе руки о сорванный штормом гик и надрывали душу, объясняясь с иноязычными проститутками, а я, покуривая важно глиняную трубку, копил себе сокровища на земле, как сказал бы достопочтенный Дункель, или собирал себе выкуп — как представлялось мне самому. Удивительно, до чего мне везло. Дважды я вдобавок к жалованью, получаемому в школе и от мясника (которого, кстати сказать, звали Ганс ван Клуг), находил деньги прямо на улице — шестнадцать долларов в первый раз и четыре во второй. И хотя я отлично разбирался в том, что почитает дурным, а что хорошим наша цивилизация, я наслушался довольно отцовских рассказов о пиратах и охотниках за сокровищами и потому не заботился возвратить то, что послал мне бог. Самая мысль об этом показалась бы мне тогда дикой, как ритуальный танец какого-нибудь первобытного африканского племени, красочные описания которых я во множестве читал. Видит бог, я не был демократом. Человек, изобретший колесо, размышлял я, не без удовольствия черпая из собственных энциклопедических познаний, жил отшельником на горе. Вздумай он, приступая к работе, посоветоваться с массами, они бы, пожалуй, убедили его лучше изобрести им защипку для белья.