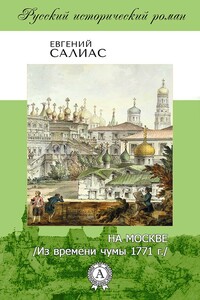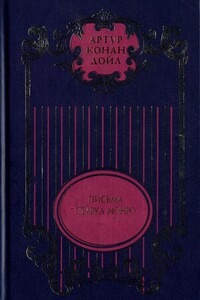Но кто-то словно бы лишил меня, болтуна первой категории, речи. Спасало вдруг открывшееся понимание: оказавшись в таком переплете, я особенно ясно понял, что окружающему пространству, говорящему через нас языком деревьев, безмолвного снега, капели, тоже приказано молчать. Оно не может развернуться с подобающим свободным стихиям размахом, с каким разворачивалось, к примеру, в стихах любимого моего Гёльдерлина, без того, чтобы его не лишили свободы, объявили безумцем, и, по сути, лишили жизни. Потому она и выглядит в литературе, музыке, такой прилизанной, парадной, такой стреноженной.
Ощутив боль несправедливости, я вдруг понял многие прежде для меня загадочные души, но общаться с ними не было возможности, ведь многие из них уже были по ту сторону жизни. Можно было лишь догадываться и молчать. Я не имею в виду мою мать, свихнувшуюся на лютеранском ханжестве, и впавшую в безумие безбрачия и страха перед соитием, и сестренку — существо ограниченное и агрессивное.
Не зря они упрятали меня в этот дом. Я на корню запродан до того, что даже про себя самого не позволяю себе думать и писать, как про глупца и неудачника, возомнившего себя гением и просадившего свою жизнь. Опять окружающие скажут: видите, мы правы, он сошел с ума. И я, оказавшийся жертвой явной несправедливости, должен изо всех сил уверять себя, что все правильно. Кому писать, кого убеждать? Потому и подписываю письма именем — «Распятый».
Дорога раскисает, снег жухнет, мир погружается в воду, тонет. Вихры его встают дыбом, но нет жалости к уходящему на дно году. Время, не идущее вспять, подобно утопающему, которого уже невозможно спасти, хотя он еще держится наплаву. Тоска безвременья с тягостной медлительностью дождей, туманов, серых ползучих дней, закладывает уши, нос, горло. Благо, припадки стали реже.
Удивительно и страшно желание уподобиться небу, запасть в щель, пропасть, сбежать от силков и сетей человеческих, ловушек и капканов, затесаться в компанию трав, степных шепотков, выйти из рода человеческого. И я пугаюсь, очнувшись от ужаса этой тяги, влекущей из мира живого в неживой.
Уже поговаривают обо мне: да кто же он, этот богоборец, овладевший умами Европы и сам сошедший с ума?
Мнится мне в лучшие дни, что кажущаяся бессознательность спящего несет в себе цельность существования, берущего в счет эту и ту сторону жизни, и тем самым расширяющегося до самых своих корней, до самого тайного ядра — жизни.
И это сродни иным проявлениям этого ядра, таинства самостоятельной пульсации чуда, называемого сердцем, с момента, когда комок плоти издает первый крик, означающий вдох и выдох.
И это сродни лунному мерцанию, накату волн, скрытому гулу речных вод, неслышному росту трав под столь же неслышным, но ощутимым ветерком.
И это не сны о жизни, а сама ее суть, говорящая, что жизнь, кажущаяся сном, и есть жизнь. Не тут ли таится чудо прикрытых глаз статуй, или даже открытых, но не видящих, погруженных в сон, во внутреннее видение?
Не потому ли статуи эти особенно прекрасны?
Спокойно спящий человек словно бы пребывает в облаке беззащитного, и потому истинного счастья.
Может, это и есть корень и суть сна — обнаруживать тайную связь между душой и природой, и помнить все время, что в тебе душа — тоскующая, жаждущая быть душой в этой как бы равнодушной природе.
11
Вечность, принимаемая как равнодушие — находка человека, неустанного жалобщика на судьбу.
Но грянуло иное время его жизни, докатился он до провала в бездну, сулящую смерть, и не за что ухватиться на этом краю, лишь лежать не шелохнувшись.
Звериному моему жизнелюбию страшно ощутить во сне неограниченную свободу души, бьющуюся о каменные стены палаты.
Сны в этом доме умалишенных — клапан непомерной энергии жизни, пытающийся поддерживать душевное равновесие.
Иногда во сне вижу себя, как бы со стороны — невысокого круглого человечка с маленькими женскими руками. Ладони мои и ноги малы, как у женщины. Может быть, мне было предназначено родиться женщиной? Может быть, я выкидыш, брак Творца, меня сотворившего?
Никогда я не освящал свое одиночество. Я жаждал плотской любви женщины, которая сможет освободить меня от вселенских проблем, свидетельствующих о смерти Бога.