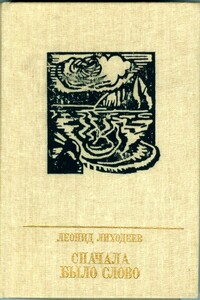О том, как шел суд, какую речь произнес Теофиль, она узнала из газетных вырезок, переданных ей аббатом Фоллеем.
«Я, член Коммуны, нахожусь в руках ее победителей, — сказал в заключение Ферре. — Они требуют моей головы. Пусть они возьмут ее! Низостью я никогда не захочу спасти своей жизни. Свободным я жил, свободным и умру! Еще одно последнее слово: судьба капризна. Пусть будущее сохранит мою память и отомстит за меня!»
Вместе с Ферре осудили еще семнадцать коммунаров и членов ЦК Национальной гвардии, в том числе Асси, Журда, Лисбонна, Груссе, Курбе, но лишь Ферре и Лголье приговорили к расстрелу.
В течение всей последующей жизни Луиза не могла позабыть безысходного отчаяния тех дней. Ни на минуту, ни на секунду не уходил из памяти образ Теофиля, ожидающего в смертной камере, когда за ним придут, чтобы отвести на Саторийский плац. Утонченная жестокость тюремщиков приводила ее в неистовство.
В дополнение ко всем тревогам от следователя капитана Брио она узнала об аресте брата Марианны и его сыновей — Даше и Лорана, — у первого из них осталось голодать и бедствовать четверо детей. И не было ни малейшего сомнения, что это она, Луиза, — виновница обрушившихся на родню бед. Сознание этого удесятеряло ее муки.
Нервы не выдержали, она дерзила и грубила тюремщикам, рисовала углем на стенах карикатуры на Тьера и Галифе, в полный голос распевала революционные песни, а однажды разбила о голову надзирателя бутылку с молоком, переданную ей Марианной.
Так она надеялась добиться ускорения следствия и суда, но ее выходки закончились тем, что, стяжав себе славу самой отчаянной зачинщицы всех беспорядков в Шантье, она в числе сорока других «буйных и непокорных» оказалась в исправительной тюрьме Версаля. Так оборвалась последняя ниточка, незримо связывавшая ее с Ферре.
Она боялась, что сойдет с ума, — в кромешном тюремном аду многие лишались рассудка, в закрытых фургонах их увозили неведомо куда… И — сны, теперь ее мучили кошмарные сны: темные, бешеные потоки несли ее, а где-то впереди, в непроглядной тьме, будто бы убивали Теофиля и рыдала мама Марианна. Однажды приснилась ей лошадь со сломанными ногами, голову которой она когда-то держала на коленях, но потом оказалось, что это голова Теофиля, тяжелая и неподвижная. И несколько раз снилось совсем позабытое. Давно-давно, в замке Вронкур, повар отрубил утке голову, и она, безголовая, вырвалась из его рук и, нелепо размахивая крыльями, носилась по двору, брызжа на всех кровью…
Проснувшись на охапке грязной соломы, Луиза долго лежала, придавленная ощущением сна, и думала, что она и ее товарки по камере похожи на обезглавленную утку…
Несмотря на владевшее ею отчаяние, иногда сами собой вспыхивали в измученном мозгу стихотворные строки:
Версаль, старая распутница!
На плечах у нее — саван вместо плаща,
Под истрепанным платьем
Она прячет младенца — Республику.
Бедное дитя! Оно покрыто проказой преступлений.
Скрывая его под своим тряпьем,
Старуха позорит его великое имя.
Что нужно ей, чтобы чувствовать свое могущество?
Ей нужны крепкие стены, солдаты и развратницы.
А рядом с ней, изнывая под позорным гнетом,
Спит Париж сном кладбища…
В ноябре, неизвестно почему, Луизу перевели в Аррасскую тюрьму. Здесь все было так же, как и в прежних тюрьмах: голод, вонючие камеры, по ночам напоминавшие громадные мертвецкие, злоба и жестокость тюремщиков.
Дни, дни, дни, одинаковые, как капли дождя. Бесконечное ожидание и такое нетерпение, что хотелось выть и до крови кусать руки…
В ночь на двадцать восьмое ноября надзирательница разбудила Луизу и отвела в контору. Там сказали, что ее повезут в Версаль, зачем — они и сами, наверно, не знали: было приказано привезти. Кутаясь в потрепанную жакеточку, под конвоем двух жандармов Луиза затемно вышла из ворот. Падал крупный снег, улицы лежали безлюдные и удивительно чистые от снега, сквозь облака просвечивали звезды.
На вокзале пришлось около часа ожидать парижского поезда. Изнуренная, с горящими глазами, в обтрепанном платье, сопровождаемая жандармами, Луиза привлекала всеобщее внимание. Какой-то пшют в дорогом пальто и цилиндре, с издевательской усмешкой рассматривая в монокль Луизу, заметил: