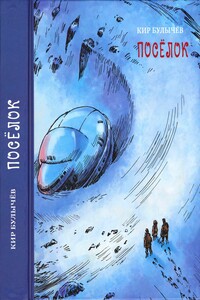А он был счастлив. Мое молчание он принимал за восхищение им, то, что я не прятала губ — за ответное признание. Он усадил меня на скамейку в скверике, сел рядом, обнял и говорил, говорил, говорил. О своей любви. О том, как давно он понял, что я для него — единственная женщина. О том, как уже пять лет он ждал, когда я стану взрослой, как боялся, что он мне не нравится, как еще больше боялся (он был до предела искренним), что сам в кого-нибудь влюбится до потери сознания и женится, не дождется меня. А я все молчала и молчала. Он встревожился. Снова заговорил о музыке.
— Не трону я ее, обещал же. А потом… — И он стал оправдывать самый свой замысел. — Да пойми же, девочка, это действительно заговор. Чистые звуки на самом деле не чистые. Все построения искусственны. Вас приучили (только не меня) наслаждаться тем, от чего ваших дедушек мутило.
— Но то же ведь и с живописью, — тихо сказала я.
— В живописи бывает что-то похожее, но то, что там исключение, для музыки — правило. Китайская музыка скучна французу, французская — китайцу. Это подлинный заговор, обернувшийся и против самих заговорщиков, потому что сами они во все верят. Ну, я ж их!..
— Что ты собираешься делать?
— Да просто предложу на радио свои записи. Найду, под каким предлогом. Пропустят разок пленку перед микрофоном — и каюк.
— Но не все же услышат.
— Первый раз, конечно, не все. Да ведь с каждой передачей у меня будет становиться асе больше сторонников. Выступлю с открытым забралом… хотя нет, что я, я же тебе обещал… Ну, значит, останется на свете музыка — для тебя, девочка. И вообще, раз я знаю, что могу все это сделать, так делать уже и неинтересно. Хотя… ты не очень расстраивайся, но и успокаивать не хочу. Раз я открыл этакую противомузыку, значит, и другие могут. Впрочем… Стоит ли охранять то, что так легко уничтожить?
И он опять засмеялся! Ему было смешно…
Луна вышла из-за туч, стало очень светло, я видела его лицо. Гладкая кожа щек кричала о здоровье, крупные белые зубы свидетельствовали о том же. Ровно лежал великолепный пробор. Лоб выглядел так, будто его только что выгладили, как парадную блузку. Ни тени сомнения не было в его взгляде. Он был уверен, уварен на сто процентов во всем. В том, что может уничтожить музыку. В том, что она достойна уничтожения. В том, что я то люблю. Надо было его остановить. Чтобы самой с ним не согласиться.
— И ты считаешь, что добился того, чего хотел?
— Да. Я ж не завидую.
— Ты позавидовал хозяину дворца — и сжег этот дворец! Красиво!
— Но дворца-то и не было!
— Тогда ты должен был строить другой.
Я сама знала, как мало логики в этом утверждении. Но мне было не до выбора слов. Я вспомнила один его разговор с моим братом.
— Ты ведь так и не узнал, почему Аристотель считал, что музыка раскрывает суть вещей. Да что там! Ты даже не узнал, зачем Эйнштейн играл на скрипке, почему это помогало ему думать.
— Ну, знаешь! Шиллеру помогал работать залах гнилых яблок. Привычка — и все.
— Да? Тогда назови мне хоть одного глухого гения.
— Бетховен.
— С твоей точки зрения, композитор гением быть не может.
— Ну, ладно. А все-таки? Как с Бетховеном?
— Оглох поздно, в зрелом возрасте. А гениев, глухих с детства, нет и не было.
— Ну и что?
— А слепые гении были. Гомер и Мильтон.
— И Паниковский, — он радостно рассмеялся.
— Ты подумай над тем, что я говорю. Зрение дает человеку четыре пятых сведений о мире, слух — а пять или шесть раз меньше. Но без зрения стать гением можно, без слуха — нельзя. Почему? Музыка.
— Ты можешь это доказать?
— А зачем? У нас же есть ты, великий теоретик! Завидуешь гениям? Но они музыкальны. Все до одного, я уверена. Вот иди и не возвращайся, пока не полюбишь музыку.
Радостная улыбка медленно ушла в уголки рта. Лоб, точно гладь пруда, подернулся рябью морщинок. Быстро-быстро заморгали ресницы. Ему было больно, и он не скрывал этого. Мне тоже было больно, но он не должен этого знать.
Упавшим голосом Витя сказал:
— Но ведь я этого не смогу…
— Ладно. Приходи, когда докажешь, что музыка необходима.
— А если… — у него не хватило дыхания и мужества, чтобы договорить эту фразу.