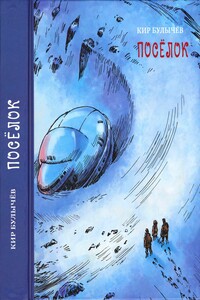— Кажется, да.
— Только кажется? Тут знаешь какая слышимость! Я все про тебя знаю. Мне в семье музыкально глухие не нужны.
— Шутишь?! — зло спросил Витольд.
— Что ты! Как бы я посмел. Вон Юлька тебе сказала то же, что я, так ты науку и искусство вверх дном перевернул. И на меня с кулаками готов наброситься. А между тем у меня есть для вас подарок.
Николай достал из кармана блокнот:
— Здесь копия программы, по которой обучает детишек профессор Микульский. Насколько я знаю, за пятнадцать лет ему почему-то ни одного музыкально глухого не встретилось. Так что, сестричка, дело только за тобой.
— Но ведь Микульский начинает работать с пятилетними…
— А сколько лет ты дашь этому доктору наук? В музыке-то он, во всяком случае, разбирается не больше пятилетнего.
— Коль! Ты и вправду считаешь, что я смогу?
— Зря я, что ли, хожу к этому Микульскому? Сможешь. Начнешь с одного музыкального строя, с обычного, а там, глядишь, и другие поймешь, открыватель. Только поработать придется. И тебе к Юльке. Пошли в комнату. Ну-ка, сестричка, к пианино. Открой блокнот. С чего там начинается, видишь? Действуй. А мы с Витенькой послушаем, поучимся.
Я опустила пальцы на клавиши. И они запели.
— Чижик-пыжик, где ты был?
И. ВАРШАВСКИЙ
СЮЖЕТ ДЛЯ РОМАНА
Я был по-настоящему счастлив. Тот, кто пережил длительную и тяжелую болезнь и наконец почувствовал себя вновь здоровым, наверное, поймет мое состояние. Меня радовало все: и то, что мне не дали инвалидности, а предоставили на работе длительный отпуск для окончания диссертации, которую я начал писать задолго до болезни, и то, что впереди отдых в санатории, избавляющий от необходимости думать сейчас над этой диссертацией, и комфорт двухместного купе, и то, что моим попутчиком оказался симпатичный паренек, а не какая-нибудь капризная бабенка. Кроме того, меня провожала женщина, которую я горячо и искренне любил.
Мне льстило, что она, такая красивая, не обращая внимания на восхищенные взгляды пассажиров, держит меня за руку, как девочка, боящаяся потерять в толпе отца. Впрочем, ее легко было понять. Сначала — эти долгие месяцы болезни, а теперь, когда все уже позади, — разлука.
— А вы далеко едете? — обратилась она к моему попутчику.
— До Кисловодска.
— Вот как? Значит, вместе до самого конца. — Она пустила в ход свою улыбку, перед которой не мог устоять ни один мужчина. — Тогда у меня к вам просьба: присмотрите за моим… мужем. — Она впервые за все время, что мы были с ней близки, употребила это слово, и меня поразило, как просто и естественно у нее оно прозвучало. — Он еще не вполне оправился от болезни, — добавила она.
— Не беспокойтесь! — Он тоже улыбнулся. — Я ведь почти врач.
— Что значит «почти»?
— Значит, не Гиппократ и не Авиценна.
— Студент?
— Пожалуй… Вечный студент с дипломом врача.
Он вышел в коридор и деликатно прикрыл за собой дверь, чтобы не мешать нам.
— Вероятно, какой-нибудь аспирант, — шепнула она.
Я люблю уезжать днем. Люблю постепенно входить в ритм движения, присматриваться к попутчикам, раскладывать не торопясь вещи, обживать купе.
Все было так, как я люблю, к тому же, повторяю, я был вполне счастлив, но почему-то мною владело какое-то странное беспокойство, возбуждение. Я сам это чувствовал, но ничего не мог с собой поделать. Я то вскакивал и выходил в коридор, то, возвращаясь в купе, начинал без толку перебирать вещи в чемодане, то брался читать, но через минуту отбрасывал журнал, чтобы опять выйти в коридор. При этом я испытывал непреодолимую потребность говорить, говорить о чем угодно, но только обязательно говорить.
Не знаю почему, но в дороге многие люди готовы открыть свои сокровенные тайны первому встречному. Может быть, это атавистическое чувство, сохранившееся еще с тех времен, когда любое путешествие таило опасности и каждый попутчик был другом и соратником, а может, просто дело в том, что у всякого человека существует потребность излить перед кем-то душу, и случайный знакомый, с которым ты наверняка никогда не встретишься, больше всего для этого подходит.
Вот тут-то, за обедом, я начал без удержу болтать. Уже мы давно пообедали, официант демонстративно сменил скатерть на столике, а я все говорил и говорил.