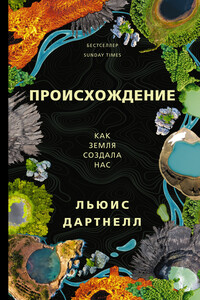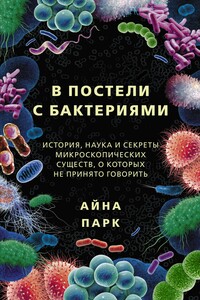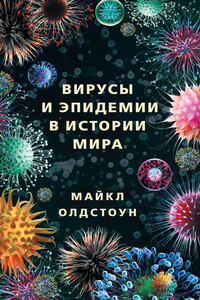Как это может выглядеть на практике, поясняет в швейцарском журнале Du исследователь культуры и юрист Ханс Буркерт: «…Все больше коллег сообщали, что было крайне сложно получить заказ на исследование, если к работе не привлекался нейроученый или хотя бы не предполагался учет результатов исследований мозга. Так, небезызвестного социолога фактически отправили восвояси с заявкой на исследование депривации молодежи в пригородах Берлина. Комментарий был таков: „Будет ли исследование подкреплено нейронаучно?“ Теперь он научен опытом и проверяет свою работу на предмет того, как часто в нее можно включить „что-то неврологическое“»[106].
То же самое относится к возможности публикации результатов собственных исследований в хорошо дотируемом специальном журнале. С обозревателями научных журналов приставка «нейро-» может творить особые чудеса. Даже если неясно, почему решение того или иного вопроса дополнительно потребовало привлечения результатов магнитно-резонансной томографии или каков смысл визуализационного исследования с теоретико-познавательной точки зрения. Обстоятельство, которое много лет назад могло побудить стэнфордского когнитивного психолога Стивена Косслина задать широко цитируемый сегодня вопрос: «Если нейровизуализация – это ответ, где же тогда вопрос?»[107]
Глава вторая
Нейродоказательные машины
Критическая оценка методов визуализации
В 1990-е, в «десятилетие мозга», позитронно-эмиссионные томограммы мозга приобрели статус фирменного знака. Они символизируют науку, прогресс, биологическую самость, цифровую визуализацию и техническую силу прогресса, все сразу[108].
Статья Вильгельма Конрада Рентгена «О новом виде лучей» (1895) произвела революцию в медицине. Уже первый анатомический рентгеновский снимок в истории – руки жены Рентгена Анны Берты с обручальным кольцом – не оставлял сомнений: теперь снаружи можно было заглянуть внутрь тела[109].
Еще одним историческим днем для медицинской диагностики стало 28 августа 1980 года. В Абердинском университете физик Джон Маллард впервые выполнил сканирование всего тела человека методом магнитно-резонансной томографии. Первое структурное МРТ-исследование пациента показало, что у несчастного шотландца первичная опухоль в груди и метастазы в костях. Всего через несколько лет после «нулевого сканирования» Малларда структурная магнитно-резонансная томография получила всемирное признание. Хорошо себя зарекомендовав, сегодня МРТ незаменима в медицинской диагностике. Она может спасти жизнь и уже сделал это в тысячах случаев. Однако для многих пациентов магнитно-резонансная томограмма также становится трагической визуализацией смертного приговора.
Результатом анатомического МРТ-обследования является более или менее точное псевдофотографическое изображение того, «что существует на самом деле». С этой точки зрения структурное МРТ-изображение похоже на рентгеновский снимок, правда, при его получении используется другой принцип измерений, а техническая сложность его исполнения намного выше[110]. На рентгеновском снимке видно, где сломана кость, тогда как структурное МРТ-изображение показывает, например, анатомическую локализацию опухоли. Возможности применения МРТ выходят далеко за пределы простой диагностики. В форме «хирургии с МРТ-поддержкой» эта процедура уже несколько лет используется также для контроля оперативных вмешательств.
МРТ – символ культуры и священный объект
Конечно, даже структурное МРТ-исследование может ошибаться. Поэтому метод отнюдь не совершенен. Еще до того, как будет выполнена магнитно-резонансная томография, необходимо принять множество решений, которые повлияют на ее результаты. Например, необходимо указать толщину среза при сканировании. Если она выбрана слишком большой, могут быть пропущены небольшие повреждения или патологические изменения. Однако если толщина среза оказывается слишком маленькой, ухудшается качество томограммы или сканирование длится неоправданно долго. Исследование машиной живого человека влечет за собой сложный перевод его биологической сущности в числа, которые, в свою очередь, преобразуются в изображения. И в конце цепи этих преобразований находится несовершенный человек, обычно радиолог, который дешифрует полученные изображения, оценивает их и ставит диагноз