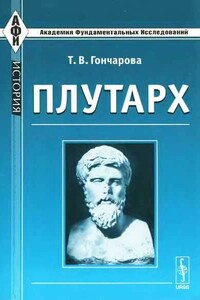Наставником класса 4B1, в котором я учился, был Снэппи Пристман – человек добрый и вежливый, который вел себя как настоящий джентльмен, за исключением тех случаев (довольно редких), когда его выводили из себя. Но даже выходил из себя он как-то по-джентльменски. Однажды на его уроке один из учеников очень плохо себя вел. Когда Снэппи это заметил, поначалу он не подал вида, но потом заговорил, предупреждая нас о своем закипавшем гневе. Поначалу он говорил вполне спокойно, как беспристрастный наблюдатель собственного состояния: “Боже. Я ведь не удержусь. Я сейчас выйду из себя. Спрячьтесь под парты. Я вас предупреждаю. Сейчас начнется. Спрячьтесь под парты”. Голос его становился все громче и громче, а лицо постепенно краснело, и наконец он сорвался, стал хватать все, что попадалось под руку (мел, чернильницу, учебник, тряпку для доски с деревянной ручкой), и с дикой яростью кидать в направлении провинившегося ученика. На следующий день он был само обаяние и – хоть и коротко, но очень вежливо – извинился перед тем учеником. Он был и остался добрым джентльменом, просто в тот раз терпение его лопнуло. С кем не бывает из людей его профессии? Да и моей тоже.
Снэппи приучил нас читать Шекспира и помог мне начать ценить этого величайшего гения. Мы ставили “Генриха IV” (обе части) и “Генриха V”, и Снэппи сам играл умирающего Генриха IV, который говорил своему сыну, раньше времени забравшему у него корону: “Тебя Господь, наверно, надоумил унесть ее, чтоб повод получить еще сильнее этим оправданьем завоевать потом мою любовь”[70]. Он нашел среди нас тех, кто мог имитировать валлийский (Уильямс) и ирландский (Румари, которого он хвалил: “Румари, ты просто клад”) акценты. Он читал нам Киплинга, убедительно изображая шотландский акцент в “Гимне Мак-Эндрю”. Завораживающие ритмичные первые строки “Долгого пути” вызывали у меня жгучую ностальгию по скирдам Овер-Нортона и раннеосеннему чувству удовлетворения – “вот и собран урожай”[71] (пожалуйста, прочитайте эти строки вслух, чтобы уловить киплинговский размер):
Слышишь голоса глухие в поле, где скирды сухие
Спят, бока подставя свету:
“Как пчела душистый клевер, так и ты оставь свой север –
Малый срок отпущен лету”?
[72]Сразу после этого мистер Пристман читал Китса, как раз воспевавшего пору “плодоношенья и дождей”[73].
Нашим учителем математики в тот год был мистер Фраут, страдавший головокружениями. Я припоминаю, что однажды перед его приходом в класс мы раскачали все лампы, висевшие под потолком, а когда он вошел, стали качаться с ними в унисон. Не помню, чем это закончилось. Быть может, результат нашей проделки стерся из моей памяти из-за угрызений совести. Возможно также, что это ложные воспоминания, основанные на школьной легенде о том, как некогда обошлись с мистером Фраутом другие ученики. Как бы там ни было, теперь я вижу в этом еще один прискорбный пример детской жестокости, о которой я часто думаю, вспоминая школьные годы.
Наши проделки не всегда сходили нам с рук. В тот же год у нас приболел учитель физики Бафти, и его заменял старший учитель естественных наук Банджи. Он выяснил, что мы дошли до закона Бойля – Мариотта, и стал продолжать изложение темы, называя нас по номерам, а не по именам, которые у него не было времени выучить. Он был маленьким сутулым старичком, самым близоруким из всех людей, которых мне когда-либо доводилось встречать, и нам казалось, что он легкая добыча для шуток, – все равно ничего не заметит. Поначалу мы думали, что он и правда ничего не замечает. Но ошиблись. Каким бы близоруким мистер Банджи ни был, он все видел и перед самой переменой спокойно объявил, что нам всем придется задержаться после уроков. Когда в назначенное время мы понуро вернулись в класс, он велел нам открыть тетради на новой странице и записать: “Дополнительный урок для класса 4B1. Тема урока: научить класс 4B1 хорошо себя вести и закону Бойля – Мариотта”. Я уверен, что это не ложные воспоминания, и надо сказать, что закон Бойля – Мариотта я с тех пор запомнил навсегда.
Один из наших учителей, единственный, кто разрешал нам называть себя по прозвищу, имел склонность влюбляться в учеников-красавчиков. Насколько нам было известно, он никогда не позволял себе ничего большего, чем слегка приобнять их и сделать двусмысленный комплимент, но в наши дни, пожалуй, и этого бы хватило, чтобы у него возникли серьезные неприятности с полицией и бдительными читателями бульварной прессы.