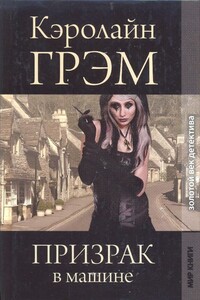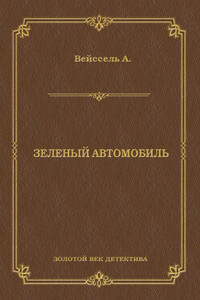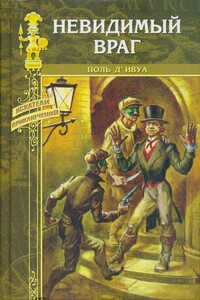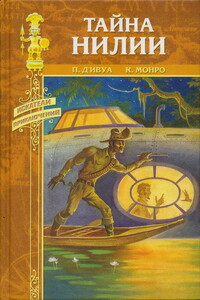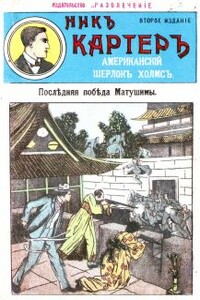Неслыханное бешенство овладело Оллсмайном. В безумном гневе он растерзал скомканное им письмо и замер на месте, как бы ища, на чем бы еще сорвать злобу. Взгляд его упал на портрет, перед которым так часто плакала Джоан. Он кинулся к картине, сорвал ее со стены и разорвал на несколько частей. Потом, швырнув на пол, принялся топтать ногами обрывки полотна и обломки рамы. Несколько успокоенный этой затратой физической энергии, он даже слегка устыдился своей дикой выходки и взглянул на жену. Во все продолжение этой сцены Джоан не двинулась с места, лицо ее сначала выражало удивление, потом ужас и, наконец, непонятную для него радость.
– Простите, – вымолвил наконец Оллсмайн, – я слишком поддался гневу.
Она молчала.
– Да, я виноват, но когда враги преследуют меня в моем же собственном доме…
– Враги? Почему же враги? – кротко возразила Джоан. – Тот, кто хочет отдать мне мою дочь, не может быть моим врагом…
– Так вы верите этим сказкам?
– Да, верю, – просто сказала Джоан.
У него снова вырвалось гневное движение, но она знаком остановила его.
– Безумие?! – скажете вы. Пусть так! Вы не были отцом и не поймете никогда, что я выстрадала. Но тело Маудлин не было найдено, и я никогда не теряла надежды. Это письмо доказывает, что я была права.
– Уловка бандита!
– Нет, я никому не делала зла. Даже бандит не посмел бы так посмеяться надо мной, не посмел бы сказать мне: мать!
– Короче: вы сноситесь с моими врагами.
– Я мать, я благословляю все, что дает мне надежду увидеться с дочерью.
Сэр Оллсмайн топнул ногой. Черты его лица снова исказились от гнева.
– Конечно! Какое вам дело, что все сговорились против меня? Ваш муж для вас никто!
Она с удивлением взглянула на него.
– Почему моя материнская привязанность так беспокоит вас?
Он опустил глаза под ее открытым взглядом.
– Потому, – пробормотал он в смущении, – что негодяи пользуются этой привязанностью, чтобы разлучить меня с вами.
– Об этом нет и речи. Мне только обещают возвратить мою дочь.
И в самом деле! В записке не было упомянуто даже имени Оллсмайна. Увидя, что он вступил на ложный путь, он еще больше рассердился.
– Если бы это обещал вам я, вы бы мне не поверили.
– Почему вы так думаете?
– Потому что вы бы сначала подумали над этим обещанием. Вы сообразили бы, что, будь ребенок жив, он уже давно был бы с вами: ведь наши розыски наделали столько шума. А когда какой-то проходимец присылает вам неподписанное письмо, то вы ему верите не раздумывая.
– Этот незнакомец подает мне надежду, а вы, вы только усиливаете мое отчаяние.
– Нет! Вы положительно сошли с ума! Вас связать надо!
И Оллсмайн, окончательно выведенный из себя, вышел из комнаты, хлопнув дверью.
* * *
Тем временем Лаваред успел дойти до своего отеля. Всю дорогу он думал об утренних происшествиях. Несмотря на любезность и добродушный тон Оллсмайна, Арман начинал чувствовать к нему все возрастающее недоверие. Нельзя было допустить, чтобы, занимая такое положение, сэр Тоби не знал о таком важном арестанте, как Ниари. От этого предположения оставался только один шаг до уверенности в том, что приказ о переводе арестанта был подписан самим Оллсмайном.
Как видит читатель, Арман был уже на пути к постижению истины. Потом мысли его приняли уже совсем другое направление. Он стал думать о той таинственной личности, которая устроила похищение Ниари. Кто был этот корсар Триплекс? Почему он так хорошо знал все его дела, почему постоянно становился на его дороге? Задать эти вопросы было легко, ответить на них – совсем другое дело! И Лаваред так и не нашел сколько-нибудь подходящего объяснения.
Ответив на почтительный поклон швейцара, он стал подниматься по лестнице, но на первых же ступенях остановился и с удивлением прислушался. Из занимаемого им помещения неслись звуки пианино и слышался молодой чудный женский голос.
– Лотия, – промолвил он. – Неужели она поет?
Удивление, с которым были произнесены эти слова, было вполне понятно. С тех пор как Арман познакомился с Лотией, он всегда видел ее мрачной и печальной, лишь изредка вынужденная улыбка появлялась на губах молодой девушки, но она никогда не приходила в то настроение, когда девушка не может удержать рвущуюся из груди песню.