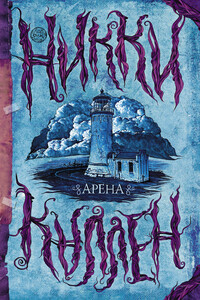– Как никто. В нашей стране эта тема, знаете, вполне себе существует.
– Почему, собственно, я и обрадовался вашей анкете.
– Я понимаю.
– Ну вот. Вы не знаете, что врач вас отметит особо для себя и потом захочет сделать своей любовницей.
– То есть я играю старшую?
– Ну да.
– А младшую вы уже подписали?
– Нет, пока нет, еще будут пробы, ну, неважно сейчас.
– Конечно.
– Ну вот. Вы в этой сцене – вам холодно, мы там включили кондиционеры, в той комнате, – вам страшно, вы грязная, вы ехали в этом ужасном поезде, но вы очень хотите жить, очень, вы молодая, вам двадцать лет, вы хотите, чтобы он вас отправил налево, в бараки. И вот человек, которого вы ненавидите и боитесь сами понимаете как, и вам при этом очень, очень, очень надо ему понравиться. Вам надо пригладить волосы, плечи прямые, улыбнуться, понимаете. И вы не знаете, и зритель не знает, но вы должны так ему понравиться, чтобы он вас забрал в любовницы потом. Но вы, конечно, даже не думаете об этом. Просто – вот как актриса – понимайте степень. Понимаете?
– Надо пробовать. Так – да.
– Ну вот отлично. Вам надо втянуться?
– Ну минуты три хорошо бы. Я прямо тогда в той комнате уже?
– Да, супер, я тогда минут через пять подойду.
Ну, дай бог, все получится здесь, расклад совсем идеальный, слишком даже идеальный, ай да Гросс, ай да сукин сын. К сожалению, мальчик, играющий врача и игравший врача же – роль второстепенная, но славная – в «Белой смерти» (что-то у меня все врачи да врачи), к евреям, кажется, гораздо терпимей, чем к черным; нет в нем ни природного двойственного этого чувства, ни достаточного актерства, чтобы накрутить себя и втянуться. Задается он, кстати, как расцелованный Мисс Америкой пятиклассник: главная роль у Гросса! главная роль у Гросса! – а что на съемках «Смерти» я его едва на тряпки не порвал за его скованность и неловкость, так это мы радостно забыли. Но к евреям он, кажется, вполне никак, не понимает даже до конца, что там такое было. Чувствую я, что на обработку биона этого мальчика уйдет у меня столько денег, сколько на всех остальных, вместе взятых; но не искать же было юного нациста – потом пресса затрахает.
– Ади, теперь касательно тебя. Ты слышал, что я говорил Хане; на самом деле сцена будет не такая, но мне надо посмотреть ее реакции кое на что, на бионе; мне надо, чтобы когда она подойдет, улыбнется и так далее, ты бы схватил ее за волосы и сказал: как ты смеешь, вонючая жидовка, кокетничать с немецким офицером? Ади, очень много от тебя зависит; надо это очень яростно, очень сделать брезгливо и с отвращением, чтобы я мог посмотреть на бионе, как Хана реагирует на такие вещи, это, как мы все понимаем, не очень красиво, но очень для фильма принципиально, я ей сам потом объясню, что у тебя было мое распоряжение, что это не ты, а я.
– Я скажу – и все, сцена кончилась?
– Нет, ты ее отпусти, и как-то передать бы… Вот ты ее отпусти и ладонь брезгливо вытри о штаны – и в глаза посмотри ей, и все, кончили сцену.
– Ну давайте. Мы меня тоже пишем?
– Только вижуал, так что разгонять себя не надо, а просто веди себя так, с нажимом.
– Ну давайте, давайте.
– Коллеги, пожалуйста, все в ту комнату, я хочу отснять – и разбежались по домам, уже семь почти, давайте, одним ударом и закончим на сегодня!
– Как ты смеешь, вонючая жидовка, кокетничать с немецким офицером?!
Держит ее пригнутой, сгорбленной, запустив тонкие белые пальцы в роскошные кудри цвета черной сливы; от неожиданности Хана даже не пытается вырваться; секунда, две, три, я щелкаю пальцами – Ади отпускает ee кудри, медленно и брезгливо вытирает руки о штанину, ай да Ади, стало быть, не только черные! – или разыгрался так? – супер, супер, долгий взгляд в глаза, он – брезгливо, она – все еще пригнувшись, испуганно и растерянно, – иииии – кат!
Подходит, когда я стою один, загружаю ридер, чтобы засунуть ее бион – не хочется почему-то накатывать сейчас на себя, ридером почему-то легче; «Ну ни хрена себе шуточки», – говорит.
– Простите, Хана, но мне нужна была реакция вот на такие вещи, это, конечно, не Ади, это было мое распоряжение.